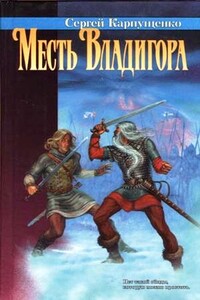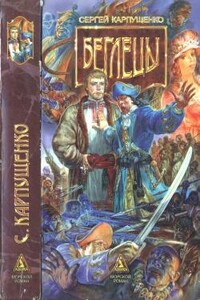Но доводы рассудка разбивались вдребезги, едва наваливалась на них глыба, название которой женское любопытство. Любаве интересно было знать, что же случилось с лицом брата, что за раны такие необыкновенные получил он в бою, зачем скрывает их далее от своей сестры. Наконец она решилась.
В горнице своей взяла свечу, зажгла от факела, прикрыла сверху чашей. Так и пошла по переходам дворца к двери, что в спальню вела Владигора. Толкнула тихонько дверь — не заперта, по полу, устланному мягкими шкурами, тихо двинулась туда, где стояла кровать, боясь, что найдет брата с маской на лице.
Ровное, сильное, но спокойное дыхание свидетельствовало о том, что Владигор спит. Сердце Любавы колотилось так, что казалось — оно своим стуком разбудит спящего. Любава подошла совсем близко, можно было уже и чашу со свечи снять…
Сняла. Взглянула и не закричала, не забилась в рыданиях. Только так затряслись у нее руки, что чашу глиняную выронила… Упала на пол чаша и со звоном разбилась вдребезги.
— Кто здесь?! — проснулся Владигор, руку сразу протянул к изголовью, где Светозоров меч висел, сестру увидел, белое ее лицо в свете дрожащего пламени свечи. Рука уже не к мечу поспешила, а к маске, лежащей на скамье, рядом с постелью, хотел поскорее лицо прикрыть, но понял — поздно.
— Кто ты? — едва шевельнулись губы помертвевшей от ужаса Любавы.
Владигор, с трудом пересилив желание броситься на грудь Любавы, чтобы выплакать свое горе, надел личину и сказал холодно, отчужденно:
— Вот, потрудился чародей какой-то над братом твоим. — А потом уже гораздо мягче: — Не послушал тебя, Любавушка, туда поехал, где, как теперь понимаю, только и ждали моего приезда, чтоб испоганить меня. Ну… и испоганили.
Любава, не глядя на Владигора, задумчиво проговорила:
— Потеряла я брата, а народ синегорский — князя…
— Да что ты говоришь такое! Как — потеряли? — вскричал Владигор, приподнимаясь на постели.
— Мне брата с таким лицом не нужно, — твердо ответила Любава. — Прежде в лице твоем видела я умерших матушку и батюшку, теперь же ты кикиморам одним да прочей нечисти подобен. Не примет тебя народ ладорский!
Сказала так и, свечку рукою затушив, быстро к выходу пошла.
На следующий день к княжескому дворцу со всех сторон Ладора и даже из слобод стали стекаться люди. Купцы, ремесленники, водоносы, хлебопеки, бортники, голытьба ладорская, — шли они по улице угрюмой, молчаливой толпой, и тем, кто высовывался из окон, объясняли в двух словах цель своего похода, после чего любопытствующие немедленно к ним присоединялись.
Вот пришли. Застучали в ворота двое выбранных, богатый купчик и ремесленник-оружейник.
— Чего вам? — вопрошали стражники из-за ворот.
— Отворяйте, к Любаве-правительнице пройти хотим! Разговор к ней есть! — голосом густым и важным говорил купец.
— Открывайте! — вторил тонким дискантом ремесленник. — Не то силой ворота отворим — нас тут тьма-тьмущая! А по какому делу к ней пришли, токмо ей одной и скажем. Но пусть всех на двор впустит, всех! Дело ладорское решать будем!
Стражники отвечали так:
— Какая такая тебе правительница Любава?! Не знаешь разве, что князь Владигор вернулся в город?
— Знаем, знаем! — басил купец. — Токмо нам твоего борейского выродка не надобно — подавай Любаву! Пусть впускает!
Через некоторое время заскрежетали засовы, ворота отворились, толпа ввалилась во двор, причем не обошлось без поломанных в давке ребер.
— Любаву нам! Любаву! — неслось из толпы, вставшей напротив парадного княжеского крыльца.
— Правительницу нам давай!
— Слово ей молвить хотим!
— А выродка борейского нам не надобно!
Любава вышла на крыльцо, величавая и важная, окинула собравшихся строгим взором. Опираясь руками на перила, помолчала, потом спросила грозно:
— Это кто же здесь длинный да ядовитый такой язык имеет, который смеет брата моего родного борейским выродком называть? Ты, Брон-купец? Или ты, Засядко-оружейник? Признавайтесь!
Брон низко поклонился Любаве, но ответил прямо и смело:
— Я про выродка слово молвил, но виноватить себя не собираюсь, Любава, потому что не брата твоего, Владигора, позорным именем назвал, а борейского ставленника, коего за брата твоего выдают. Где же это видано, чтобы князь, из дальних земель воротясь, в личине перед своим народом являлся, внешность свою скрывал? Да знаем доподлинно мы, что никаких ран на лице его нет, но представляет оно собой богомерзкую, чудовищную харю. Где ж тут лицо Владигора, красавца писаного, на которого мы молиться готовы были, как на изваяние Перуна?