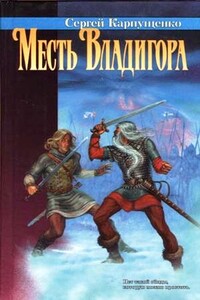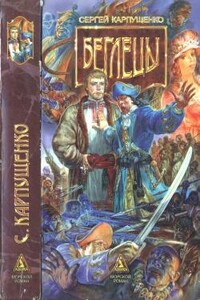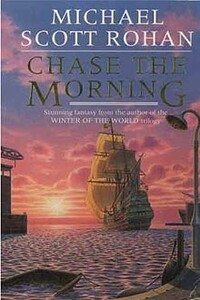Некоторое время на поле царила тишина. Лишь тихое ржание лошади нарушало ее. Но вот резко поднялся со скамьи и срывающимся голосом заговорил Грунлаф:
— Схватите этого злодея, посмевшего нарушить покой хозяина, принявшего его в свои чертоги!
И тут же стражники Грунлафа бросились к витязю с кукушкой на спине. Карима, выхватив из-под свиты кинжал, встретила первого, кто подбежал к ней, ударом клинка в живот, но остальные воины быстро повалили ее на землю. Ее гибкое тело билось и извивалось, точно змея. И каково же было изумление воинов и всех, кто наблюдал за короткой схваткой, когда из-под разорванной свиты мелькнули округлые женские груди.
— Повелитель! — воскликнул один воин, когда Кариму подвели к Грунлафу. — Да это и не витязь вовсе, а… баба!
Грунлаф, поначалу лишившийся дара речи от изумления, молчал, поглядывая то на лицо Каримы, уже лишенное маски, то на ее грудь, а потом молвил:
— Ты хотела убить… меня?
— Нет, твою дочку! — дерзко выпалила Карима.
— Что же дурного сделала тебе Кудруна? Ради чего ты приехала на состязания?
— Чтобы или победить, и тогда Кудруна, в которую все влюблены, не досталась бы никому, или убить ее, если будет первым Владигор!
Грунлаф нахмурился. Впервые в жизни видел он такую страстную женщину.
— Выходит, — спросил он после глубокого раздумья, — ты любишь Владигора?
— Да, так же сильно, как любит его твоя дочь! Пусть же будет проклята она богами за то, что стала соблазном для мужчин!
Грунлаф снова задумался. Его сердце прониклось сочувствием к этой несчастной женщине, решившейся сменить платье на мужскую одежду и принять участие в состязаниях лишь ради того, чтобы Кудруна не досталась Владигору или вовсе никому не досталась. Но законы его княжества, главным судьей которого был он сам, требовали строго наказать покушавшуюся на жизнь дочери правителя.
— Ты будешь казнена, — коротко сказал он и взмахнул рукой, давая стражникам знак, чтобы Кариму увели. Ошеломленная толпа с суеверным трепетом смотрела на женщину в мужском кафтане. Все полагали, что без колдовства здесь не обошлось, ведь какой же «бабе» придет на ум, нарядившись витязем, явиться на состязание стрелков из лука! Да еще и стреляет она так ловко, едва ли не лучше всех!
— Жаль, если Грунлаф велит отрубить ей голову, — произнес кто-то негромко, когда Кариму увели в город.
— Да, жаль, — кивнули говорившему в ответ. — Добрым бы дружинником была эта девка…
Но зазвучали трубы и рога, забили барабаны, будто стремясь стереть память о неприятном событии, и после того, как стихли они, заговорил судья:
— Люди! Все вы были свидетелями, что соревнования судились нами честно и беспристрастно! И вот настало время назвать победителя! Вот он, смотрите! Это витязь с конем на кафтане! Теперь же пусть сам благороднейший князь Грунлаф выкажет ему свою приязнь!
Грунлаф поднялся, царственным жестом оправил пурпурную мантию, громко, чтобы слышали все, заговорил:
— Подойди ко мне, благородный витязь! — И когда Владигор, держа самострел на плече, встал напротив князя игов и Кудруны, взиравшей на него с нескрываемой любовью, продолжил: — Ты, кто оказался непревзойденным в состязании лучников, ты, кто своим метким выстрелом спас от смерти мою дочь, достоин ее руки! — Потом, еще более возвысив голос и обращаясь уже к зрителям, среди которых были еще не уехавшие витязи и князья, сказал: — Видят боги, что я до сих пор не ведаю имени победителя — оно мне безразлично, потому выполняю я свой обет, отдавая дочь свою за лучшего стрелка. Подойди к Кудруне, витязь, не снимая пока своей личины!
Владигор, трепеща от восторга, подошел к Кудруне.
— Возьми ее за руку! — приказал Грунлаф, и Владигор робко протянул к руке Кудруны свою большую ладонь. — Скажи, согласен ли ты взять в супруги дочь Грунлафа, правителя княжества игов? — вопросил князь игов.
— Согласен! — громко сказал Владигор и удивился, что голос его почему-то прозвучал непривычно резко и хрипло.
— А ты, Кудруна, дочь Грунлафа, согласна ли стать супругой витязя, победившего всех других в состязании лучников?
— Согласна, — для приличия помедлив, ответила Кудруна, и этот миг казался девушке самым счастливым, самым радостным в ее жизни. Грунлаф, вновь обращаясь к зрителям, спросил: