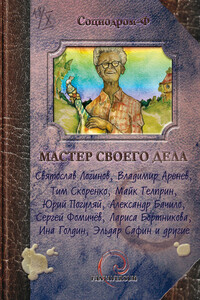Ужинали не спеша. Вячеславу Андреевичу приходилось иметь дело с дедом Тарасовым, и он знал, что если уж тот пришел – так всерьез и надолго. Дед ел мало, зато вовсю дымил «Примой», то и дело покашливая и потирая впалую грудь. Был он сухощав и редковолос, но вовсе не казался развалюхой, а смахивал на этакого удалого старичка-боровичка из советских фильмов-сказок. И одет он был не в какую-нибудь рухлядь, а во вполне приличную, хотя и выцветшую камуфляжную военную форму. Грузный, похожий на борца-тяжеловеса Вячеслав Андреевич оставался в «городских» рубашке и брюках, тоненькая тетя Лена переоделась в красно-белый «спартаковский» домашний халат, а Сережа был в футболке и джинсах – универсальной одежде не первого уже поколения молодежи любой, наверное, страны.
– Ты, Сярега, картоху-та с грибам наворачивай, а не просто так, – сказал дед Тарасов, откинувшись на старом венском стуле и попыхивая «Примой». Его «аканье» было для Сергея непривычным и смешным: отец, полжизни прожив на Украине, так не «акал». – Грибы-та нашенские, сам собирал, сам готовил. У вас там таких нет, че, я не знаю? С грибам и огурцам ешь, эт лучше сала-та.
– У нас вообще грибы не едят, – немного смущаясь, ответил Сережа. – А кто ел, тот отравился. Отравлений много, каждый год…
– Вот карелы-та! – почему-то восхитился дед Тарасов. Сергей сначала не понял, при чем здесь карелы, а потом догадался. В его краях говорили: «Ты шо, турок?» – Нашими не отрависся, тута ни химии, ни радиации. Природа! Чернобыль далеко, не то что у вас. Опять же, знать надо, что берешь, и готовить с умом. Ешь, Сярега, я семисят пять годов ем – и живой, как видишь. И еще лет сто помирать не собираюсь.
Сережа нанизал на вилку солидный скользкий кусок неведомого продукта, осторожно попробовал. Да-а, это было вкусно! Вкуснее соленых орешков «Козацька розвага».
– А мы за грибами завтра собираемся, – сообщил, делая ударение на «завтра», Вячеслав Андреевич и вытер платком испарину с покатого, с глубокими залысинами лба. – Лена у нас тоже в этом деле дока.
– Ну, дока не дока, а десятка два вагонов за свои сорок с хвостиком насобирала, – улыбнулась тетя Лена, аккуратно очищая от скорлупы сваренное вкрутую еще в Твери яйцо. – И с груздями дело имела. Хорошие у вас грузди, Василь Василич.
– Ну так! – дед Тарасов победно выпустил струю дыма в потолок, распахнул ворот камуфляжа; водочка, она свое брала, распаривала душу и тело. – Места здеся богатые, хошь косой коси. За грибам собрались – эт хорошо. Хошь туда можно, – он махнул рукой с сигаретой в окно за спиной Вячеслава Андреевича, – хошь туда, – рука мотнулась в сторону приоткрытой в сени двери. – Тока к Лихой горке не забирайтеся, я всех городских предупреждаю. Наши-та и так не ходють, калачом не заманишь.
– Почему? – спросил оторвавшийся от груздей Сережа, а Вячеслав Андреевич перестал хрустеть свежим огурцом.
Дед Тарасов потер седую щетину на подбородке и многозначительно поднял палец:
– Нехорошее место. Не выдумал, от стариков слышал, а те – от других стариков. Древняя история. Плясни, Андреич, еще чуток, и я расскажу.
– Только уже без меня, – отозвался Вячеслав Андреевич. – Душно… Я лучше пепси-колы племянниковой. Или, вон, компота.
– Канпота так канпота, – легко согласился катьковский старожил. – Ну, таперя, как грится, за Расею-матушку!
Выпив и занюхав водку рукавом камуфляжа, дед Тарасов приступил к рассказу. Тетя Лена слушала не очень внимательно – она принялась возиться в сторонке с какими-то пакетами, что-то там пересыпала, перекладывала; Вячеслав Андреевич, устроившись вполоборота к столу, рассеянно смотрел в окно на наливавшуюся темнотой кромку недалекого леса, а Сереже было интересно. Манерой вести повествование дед Тарасов напоминал дидуся Панаса из давней ежевечерней детской телепередачи на сон грядущий, только у Панаса, в отличие от катьковского старичка-боровичка, не заплетался язык.
Было это дело, говорил дед Тарасов, во времена тверского князя Михаила Ярославича. («Ну, который теплоход таперя, по Волге ходит, «Михаил Ярославич», мученик святой», – пояснил дед.) Разбитый московскими войсками, он с остатками дружины укрылся здесь, в дальнем лесном уголке своих владений, намереваясь пробираться в Литву за помощью, чтобы потом напасть на Москву и в пух и прах разнести спесивых москвичей. («Москалей», – улыбнулся про себя Сережа.) Дружина стояла в одной из местных деревень, из тех, что сгинули теперь с лица матушки-земли, готовилась к дальнейшему походу в литовские пределы. Опасаясь преследования московитов-московитян, князь пустил по окрестностям дозоры. И вот один такой дозор забрел на Лихую горку. Только тогда ее еще не называли «Лихой» – был это безымянный холм у слияния двух ручьев. «Точнее, это сейчас ручьи, – поправился дед Тарасов, – а тогда были целые речки, навроде Осуги, Поведи, а то и Тверцы». Там, на том холме, когда-то располагалось древнее, времен волхвов, языческое святилище («Капище», – вставил Вячеслав Андреевич, все внимательнее вслушиваясь в размытую речь нового Бояна), а потом, при новой вере христианской, идолов скинули, святилище развалили. Одним словом, все как при революции или перестройке, будь они неладны, вместе с лысым Ильичом и лысым меченым Мишкой. («Правильно, – сказала тетя Лена от своих пакетов. – Наш силикатный чуть ли не три года простаивал, люди не черта не получали».)