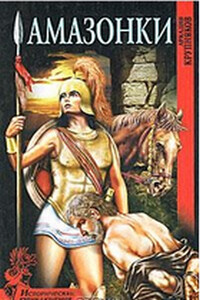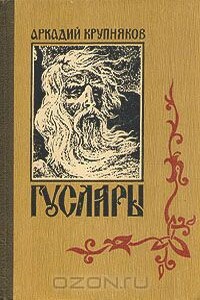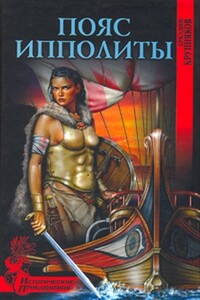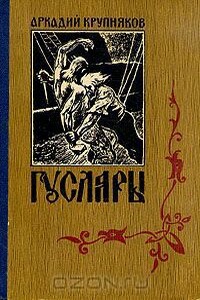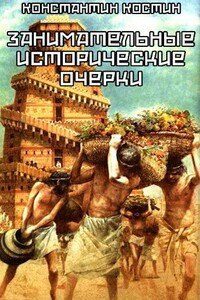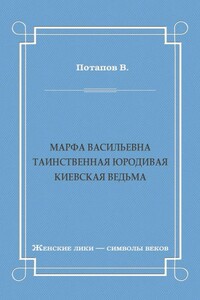— А кто...
— Забаяла ты меня, девка, совсем. Язык к горлу присох. Я выпью малость.
Припав к ушату еще раз, Ешка заплетающимся языком стал молоть несусветную дурь такую, что Ирине пришлось выйти. Из скита впервые со дня его сотворения понеслась по лесу Ешкина разухабистая песня.
Потом он заснул.
Ирина принялась готовить еду...
Когда Санька вывел монаха из скита к озеру, тот спросил совсем попросту, без высоких слов:
— Неужто не признал меня, Александр?
— Н-нет.
— Да Шигонька я—митрополичый летописец. Когда ты постельничим князя был, я хорошо помню.
— Мне ж во владычьих покоях пребывать не приходилось, откуда мне знать тебя? А слышать слышал,—Санька, говоря с Ши- гонькой, думал, что не зря тот сюда приволокся. Либо с прощением, либо... спросил осторожно:—Кто сейчас правит в Москве?
— Государыня Елена Васильевна, ни дна бы ей ни покрышки.
«Ой, хитрит, лукавец,— думает Санька.— Коль у власти Елена, стало быть, за моей душой этот дьяк послан».
А Шигонька, не замечая Санькиных страхов, говорил:
— После того, как ты из Москвы утек, подсунул меня владыка к великому князю в думные дьяки. И стал я у Василия Иваныча первым советником. Он без моего слова ни одного дела не начинал. А я и сам не глуп, да и митрополит Даниил думать мне помогал. Силу в Кремле имел я большую. Пришло время — великий князь умер. Государем провозгласили трехлетнего Ивана, ну а он какой правитель? Вся власть к матери его перешла. Правда, ничего худого про то правление я не скажу, одначе митрополита, а стало быть, и меня, слушать перестали. Даниил и повелел мне: придумай такое, чтобы по-прежнему было. Я придумал, да видно не больно ладно, слышу повеление: мне и боярину Патрикееву вести головы на плаху. Я—ко владыке. Тот подал мне рясу монашью, скуфейку да и говорит: «Убежать я тебе, друже, помогу — сие легко. А вот как ты обратно прибежишь? Не век же в нетях ходить? Посему иди ты в черемисскую уже знакомую тебе землю и к вере православной агарян да язычников приобщай, часовенки строй, умы диким народам просветляй. И только этим заслужишь себе прощение. Ну я и прибег в сии края В дороге вот этого монашка-бродягу встретил, вдвоем как-то легче.
— А в мой скит зачем забрел? Уж не меня ли еще раз в православную веру обратить хочешь?
— С собой позвать хочу, Александр,— прямо ответил Шиго- ня.— Не тот ты человек, чтобы без пользы родной земле жить. Стыдно! Даже Ешка—пропащая душа—со мной ходит. Пойдешь>5
— Пойду,—твердо сказал Санька.—Здесь заживо сгнить можно. Да, прав митрополит: не весь же век в нетях ходить. Куда идти-то?
— Надумал я подвиг великий учинить, пройти во глубь лесов, в такие дикие места, куда ни один православный не проходил. Люди живут там свирепые, одначе верой чужой не испорченные. Там православие привить будет легче. Не хочу лгать перед тобой, Александр: подвиг сей труден. Может быть, и животов своих лишимся, может, придется умирать в мучениях. Зато коль вернемся, подвиг наш бог и святая церковь не забудут. Подумай!
— Я сказал: пойду. Что тут думать?
— А сестра?
— Куда иголка, туда и нитка. У нее выбора нет. Когда тро- немся-то?
-- Завтра, с богом.
— Тогда пойдем, угостимся, чем бот послал, да и сборы начнем в дорогу.
Ирина согласилась пойти в лесные пустыни дикие с радостью. И то верно: скитская жизнь опротивела — дальше некуда, а надежда заслужить право возвращения в родные места окрылила брата и сестру.
На другой день, оставив скит, ушли они за Шигонькой и Ешкой по невозвратной дороге в новую, неведомую им жизнь...
Шигонька сказал правду: путь до устья Кокшаги оказался легким. Ладья, взятая у монаха, на ходу быстра, послушна. Неслась она по течению, как стрела. Ешка с Санькой сидели на веслах,
Шигоня — на руле, Ирина примостилась под навесиком на носу.
Перед отъездом Шигонька сказал Ешке:
— Отныне про Большую палку забудь. Понесем мы диким людям токмо правдивое слово свое, трудовые руки свои да чистое сердце. И тогда они примут нас и полюбят и в молитвы наши поверят.