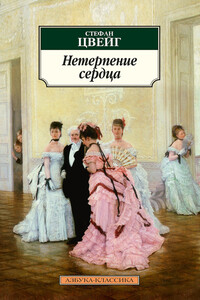* * *
Что же случилось? 30 сентября Эбер неожиданно получает письмо из Тампля от сапожника Симона, воспитателя дофина. Первая часть написана рукой неизвестного, не содержит орфографических ошибок и гласит: «Привет! Приходи быстрее, друг, у меня есть что рассказать тебе, я буду очень рад тебя увидеть; постарайся прийти сегодня, ты увидишь во мне искреннего и честного республиканца». Остальная же часть письма нацарапана рукой Симона и своей чудовищно гротескной орфографией показывает уровень культуры этого «воспитателя»: «Jet te coitte bien le bon jour moi e mo nest pousse Jean Brass etas cher est pousse et mas petiste bon amis la petist e fils cent ou blier ta cher soeur qui jan Brasse. Je tan prie de nes pas manquer a mas demande pout te voir ce las presse pour mois. Simon, ton amis pour la vis» («Мы шлем тибе привед я и моя старуха абнимаим тибя добрый друг и гражданин тваю супругу сынка незабудь абнядь и тваю систру тоже прашу тибя выпалнить маю прозбу для миня это очин важна. Твой да грабовой доски Симон»). Верный своему долгу, Эбер немедленно спешит к Симону. То, что он там слышит, даже ему, видавшему виды, представляется настолько жутким, что он не решается лично заниматься этим и требует специальной комиссии ратуши под председательством мэра; комиссия направляется в Тампль и составляет там три протокола допроса (дошедших до наших дней) – решающий материал обвинения против королевы.
* * *
Мы приближаемся к тому, что долгие годы казалось невероятным, психологически неоправданным, к тому эпизоду в истории Марии Антуанетты, который в какой-то степени можно объяснить лишь ужасно возбужденной атмосферой того времени, систематическим, длящимся десятилетиями искусным отравлением общественного мнения. Маленький дофин, не по возрасту развитой, шаловливый мальчик, находясь еще на попечении матери, играя с палкой, повредил себе мошонку; вызванный хирург сделал ребенку нечто вроде грыжевого бандажа. Казалось бы, с этим случаем, происшедшим еще во время нахождения Марии Антуанетты в Тампле, тем самым было покончено, о нем можно было бы позабыть. Но однажды Симон или его жена обнаруживают, что рано физически созревший и избалованный ребенок предается некоему детскому пороку, известным plaisirs solitaires[330]. Застигнутый врасплох, мальчик не может отречься от проступка. Понуждаемый Симоном к ответу, кто привил ему эту дурную привычку, несчастный ребенок говорит или дает себя уговорить, что мать и тетя склонили его к этому пороку. Симон, полагающий, что от этой «тигрицы» можно ожидать всего, даже самого дьявольского, расспрашивает дальше, крайне возмущенный такой порочностью матери, и наконец дело доходит до того, что мальчик начинает утверждать, будто женщины, мать и тетка, в Тампле часто брали его в постель, а мать имела с ним половую близость.
Само собой разумеется, на такое чудовищное показание ребенка, которому нет еще девяти лет, здравомыслящий человек в обычные времена ответил бы крайним недоверием. Но убежденность в эротической ненасытности Марии Антуанетты, воспитанная на бесчисленных клеветнических брошюрах революции, так глубоко проникла в кровь французов, что даже это вздорное обвинение матери в том, что она понуждала ребенка восьми с половиной лет к сожительству с нею, не вызывает ни у Эбера, ни у Симона ни малейшего сомнения. Напротив, этим фанатичным и к тому же введенным в заблуждение санкюлотам все это представляется совершенно логичным и ясным. Мария Антуанетта, вавилонская блудница, эта гнусная трибада[331], еще со времен Трианона привыкла каждый день пользоваться для плотских утех услугами нескольких мужчин и женщин. Не естественно ли, решают они, что подобная волчица, запертая в Тампле, где ей не найти партнеров для своей адской нимфомании, кидается на собственного беззащитного невинного ребенка? Совершенно потеряв голову от ненависти, ни мгновения не сомневаются ни Эбер, ни его мрачные друзья в истинности обвинения, возводимого ребенком на свою мать. Теперь остается лишь черным по белому запротоколировать позор королевы, чтобы вся Франция узнала о беспримерной развращенности этой подлой «австриячки», для кровожадности и испорченности которой гильотина будет лишь малой карой. И вот снимаются три допроса: допрашивают мальчика, не достигшего девяти лет, пятнадцатилетнюю девочку и мадам Елизавету; протоколы допросов настолько отвратительны и непристойны, что в их подлинность трудно поверить, но они существуют, их можно прочесть и сегодня, эти уже пожелтевшие от времени постыдные документы Национального парижского архива, собственноручно подписанные несовершеннолетними детьми.