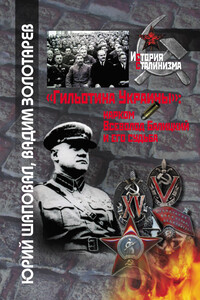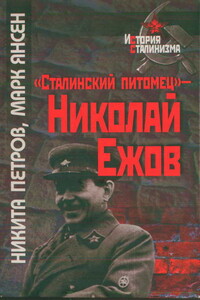Несмотря на явно обозначившееся уже к середине 1932 г. отставание в вопросах снабжения частей продовольствием, обмундированием, обувью и жильем, НКПС и ЦДТ не озаботились организационным обустройством и налаживанием системы, но, движимые жаждой захвата как можно большего количества «контингента», продолжали увеличивать численность тылоополченцев в своих структурах. Задачи форсированной индустриализации требовали от руководства этих наркоматов максимального повышения темпов строительства объектов, при этом совершенно не учитывались условия жизни и работы «классово чуждого элемента». В итоге ЦУТО НКПС, ЦДТ и НКТП так и не смогли освоить набранные «контингенты» и создать для них нормальные условия. Большинство частей оказалось в тяжелейшем положении. Передача частей и соединений т. о. в ведение НКВМ стала закономерным итогом неудачных экспериментов гражданских наркоматов по строительству системы т. о.
Второй этап (1933–1937 гг.) отмечен более рациональными решениями руководства УТО ГУ РККА в вопросах создания, переформирования, передислокаций и практического применения частей и соединений т. о. Была проделана большая практическая работа по оптимизации структур и процессов управления частями и соединениями в военных округах и в масштабе всей системы.
Необходимо особо подчеркнуть, что, несмотря на принудительный характер труда тылоополченцев, наличие в их рядах людей, враждебно настроенных по отношению к власти и ее представителям в частях (командирам), НКВМ (НКО) к 1935 г. удалось создать рационально выстроенную военно-производственную систему, которая стабильно выполняла и перевыполняла производственные задания. Средняя производительность труда по частям за 1934 г. составила 143,5 %, прибыль всей системы — более 30 млн руб., в 1935 г. — 162,2 % и почти 60 млн руб., за три квартала 1936 г. — 198,7 % и более 45 млн руб. (89,3 % от годового плана) соответственно. Большинство частей вышло на показатели самоокупаемости. Перевыполнение этими частями общесоюзных норм производительности труда, а тылоополченцами — норм среднесуточного заработка для вольнонаемных рабочих свидетельствует о том, что труд тылоополченцев, с учетом внеэкономического характера его организации, оказывался более результативным, чем труд вольнонаемных рабочих, спецпереселенцев и заключенных, что обусловливалось рядом причин, в первую очередь военизированными принципами его построения, отбором в его ряды в основном молодых, физически здоровых людей и стимулом восстановления в гражданских правах.
Таким образом, концепция строительства и развития системы т. о., примененная НКВМ (НКО), оказалась в целом жизнеспособной и соответствовала стоявшим перед системой задачам формирования инфраструктуры военно-оборонного потенциала. В то же время, будучи органичной частью мобилизационной модели организации и использования труда, тыловое ополчение могло функционировать только в жестких режимно-нормативных рамках, изменение которых (принятие Конституции) подвело черту под существованием этой разновидности милитаризованного труда.
Всего через систему т. о. с 1930 по 1937 г. прошло около 90 тыс. чел. Почти семилетний период существования в СССР т. о. как гибридной структуры, наделенной признаками и милитаризированной, и производственно-экономической организации, позволяет говорить о том, что данный феномен оказался весьма органичным для сталинской системы, фундаментом которой являлся тип мобилизационных отношений и связей между властью и обществом, менявший свои формы в зависимости от целей и задач, считавшихся приоритетными в конкретные моменты времени. Утилитарное использование труда частей т. о. в невоенное время в интересах обеспечения общеэкономического «скачка», а не только для создания военно-оборонной инфраструктуры, может интерпретироваться следующим образом. Формально гражданские ведомства, получая «на откуп» ресурсы т. о., решали тем самым задачи форсированного наращивания военно-промышленного потенциала. Тылоополченцы оказались оптимальным, хотя и ограниченным «контингентом» рабочей силы для решения тактических экономических задач в отдельных, как правило, трудодефицитных регионах. Государство в данном случае не делало разницы между использованием мобилизационно-милитаризированного труда для обеспечения устойчивого роста добычи угля на шахтах Кузбасса и для строительства стратегических дорог на Дальнем Востоке.