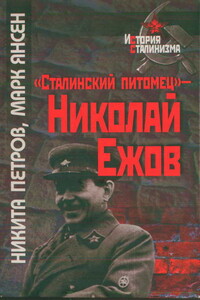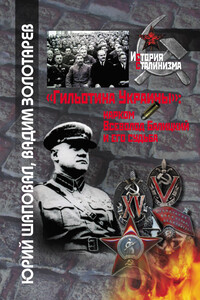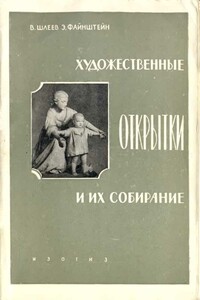В 1930 г. сельские «лишенцы» в основном работали в колхозе (15,3 %), на заводе (6,6 %), по найму (4,6 %). На спецпоселении оказался 31 % представителей изучаемой группы, около 7 % отбывали наказания в тюрьмах. Занятия 23 % сельских «лишенцев» в этот период неизвестны.
В 1930-е гг. заметны первые итоги преобразования общества: значительная часть городских «лишенцев» радикально меняет свои занятия, она пополняет ряды тех, кто работал на предприятиях (Прил. I, табл. 13, 14). При этом значительно увеличивается численность отбывавших наказание и находящихся в ссылке, в т. ч. крестьян. Если на протяжении предыдущего периода жители села неизменно занимались земледелием, то в 1930-е гг. большинство крестьян, входящих в исследуемую группу, сменило вид деятельности. Крестьяне оказывались на спецпоселении, либо, избежав ссылки, работали на тяжелых работах по найму, некоторые временно занимались единоличным трудом – стали печниками, извозчиками и т. п. Основная масса крестьян постаралась «раствориться» на стройках Кузбасса. В этот период многие бывшие «кулаки» работали на предприятиях и шахтах края.
На заводы и стройки края стремились не только бывшие крестьяне, но и лица, ранее ведшие торговлю, работавшие по найму на частных владельцев, домашние хозяйки, многие кустари и единоличники. Вместе с тем часть ремесленников и тех, кто занимался единоличным трудом, не изменила своим традиционным занятиям. Желающих торговать или вести свое дело в этот период среди новосибирских «лишенцев» не нашлось.
В 1931–1936 гг. в занятиях абсолютного большинства сельских «лишенцев» почти ничего не изменилось (Прил. II, табл. 5). Так, в 1930-е гг. занятия 60 % сельских «лишенцев» остались неизменными, в т. ч. 80 % крестьян, высланных в предыдущий период, оставались на спецпоселении, 6 % сбежали со спецпоселения, 3,3 % умерли в ссылке, некоторые (8 %) по разным причинам оказались освобождены и либо вернулись на прежнее место жительства и вступили в колхоз, либо, оказавшись в городе, устроились на заводы, занялись единоличным или кустарным трудом. Отбывавшие наказания преимущественно вернулись из мест заключения к семьям на спецпоселения. В 1930-е гг. продолжали работать на заводах и в артелях крестьяне, сумевшие в конце 1920-х гг. перебраться в город. Исключение составили те, кого уволили «за сокрытие социального положения» или призвали в тылоополчение (дети «кулаков», работавшие на предприятиях).
Судьбы сельских «лишенцев», вступивших в 1930 г. в колхозы, но в 1931–1935 гг. вышедших или исключенных из них, а также подвергшихся индивидуальному обложению, «раскулачиванию» и лишению избирательных прав, сложились по-разному. Более половины из них впоследствии остались работать в колхозе: они смогли доказать, что не относятся к «кулакам», или им позволили остаться в деревне. Остальных ожидала участь ранее «раскулаченных»: около 4 % попали в тюрьмы и лагеря, 16,5 % были отправлены на спецпоселение, другие, став отходниками, устроились в городах на стройках, заводах, занялись кустарным трудом, стали работать плотниками, извозчиками и т. п.
В 1931–1936 гг. на спецпоселение было выслано 10 % сельских «лишенцев» (по сравнению с 1930 г. втрое меньше). Остальные в этот период были призваны в тылоополчение, смогли устроиться работать на предприятия, заводы, стройки, шахты. Безработными оставались немногие сельские «лишенцы» (1,2 %), преимущественно бывшие белые офицеры, ранее работавшие в советских учреждениях.
Судьбы новосибирских «лишенцев» трудно назвать простыми. За небольшой по меркам мирного времени период эти люди прожили по сути несколько жизней. За первые 20 лет нового века было по меньшей мере три переломных момента в жизни значительной части рассматриваемой группы: Первая мировая война, Октябрьская революция и последовавшая за ней Гражданская война, начало нэпа. Едва приспособившись к новым социально-политическим условиям, люди вновь оказывались перед сложнейшим жизненным выбором в радикально изменившихся обстоятельствах. Зачастую дальнейшая судьба человека зависела от того, насколько он «уловил момент». На долю «лишенцев», помимо испытаний войнами и революциями, выпал и поворот, совпавший с рубежом 1929–1930 гг., в равной мере радикально изменивший судьбы и интеллигенции, и крестьян, и мелких городских хозяев.