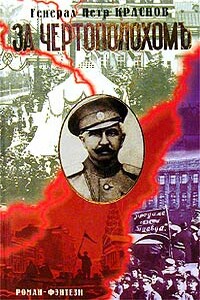Качало и основательно качало.
Наверху дулъ жестокій мистраль.[41] Онъ свисталъ въ вантахъ крановыхъ низкихъ мачтъ, разметывалъ въ клочья густой черный дымъ, валившій изъ пароходныхъ трубъ и гудѣлъ въ большихъ бѣлыхъ желѣзныхъ вентиляторахъ. Съ палубы все было убрано, и матросы дежурили на ней, держась за протянутые вдоль каютъ леера.[42]
Море бушевало. Сине-лиловыя волны поднимались горами, становились выше бортовъ «Лаоса». По нимъ жемчужнымъ узоромъ катилась пѣна. Волны сгибались, ломаясь на гребнѣ, съ грознымъ шипѣньемъ вскипали, покрываясь бѣлыми пузырьками и низвергались на пароходъ. Надъ ними, махая косыми крыльями рѣяли чайки. Пароходъ содрогался подъ ударами волнъ, подымался на нихъ и вдругъ падалъ носомъ съ грознымъ гуломъ, подобнымъ пушечному выстрѣлу, и тогда брызги летѣли далеко по палубѣ и волна заливала бѣлыя узкія доски. А потомъ пароходъ переваливался съ боку на бокъ, точно ему такъ легче было пробивать себѣ путь черезъ разыгравшееся море.
Внизу гудѣла и стучала машина. Изъ-за закрытыхъ иллюминаторовъ въ каютахъ и корридорахъ парохода было душно, и нудно пахло машиннымъ масломъ и масляною краскою. Изъ каютъ неслись стоны и вопли больныхъ пассажировъ. Горничныя и стэварды, ловко присѣдая на колеблющемся полу, разносили по каютамъ, кому лимонъ съ сахаромъ, кому коньякъ, кому крѣпкій кофе.
Коля разсказывалъ Стайнлею, что во всѣхъ каютъ-компаніяхъ[43] по столамъ натянули «скрипки»[44] и что накрыто менѣе половины столовъ. Въ каютѣ перваго класса, къ утреннему завтраку, кромѣ мистеровъ Брамбля и Стайнлея, вышло только пять пассажировъ.
Послѣ разговора о бурѣ, заговорили о Россіи. Мистеръ Стайнлей попросилъ Колю пѣть Русскія пѣсни.
— Какъ же, мистеръ, ихъ пѣть, — сказалъ Коля, — безъ аккомпанимента ничего не выйдетъ. Если бы на піанино, или на гитарѣ можно было подобрать, я бы вамъ спѣлъ.
Стайнлей повелъ Колю въ гостиную. Онъ усадилъ Колю за піанино, сѣлъ рядомъ, и Коля вполголоса напѣвалъ, подыгрывая, все то, что слыхалъ отъ добровольцевъ, что пѣла ему его мамочка, чему научилъ его Селиверстъ Селиверстовичъ. Онъ перевелъ на англійскій языкъ слова пропѣтыхъ пѣсенъ, и Стайнлей, глядя славными, добрыми сѣрыми глазами на мальчика, сказалъ:
— Какъ это хорошо! Какъ чувствуется, въ вашихъ пѣсняхъ природа и Богъ, ее создавшій. Какъ любите вы, Русскіе, Божій міръ.
И мистеръ Стайнлей задумался.
— Ну, майдиръ Коля, спойте мнѣ еще разъ этотъ «Костеръ»… Какъ хорошо! Какъ хорошо!
За стѣнами гостиной бушевало море. Шипѣло, било, ударяло въ борта, разсыпалось серебрянымъ дождемъ брызгъ. Отъ прикрытыхъ ставенъ въ гостиной съ мягкой мебелью и пушистыми коврами было полутемно. Коля мурлыкалъ вполголоса и уносился въ какой-то волшебный, незнаемый имъ міръ, въ нѣжно и горячо любимую страну: — Россію.
Онъ совсѣмъ забылъ о привидѣніи.
Оно само напомнило о себѣ, когда подходили къ Портъ-Саиду.
Коля проснулся послѣ крѣпкаго сна, какимъ спять здоровые, молодые люди въ качку, позже обыкновеннаго.
Еще не открывая глазъ, съ наслажденіемъ ощутилъ, что та большая кругообразная качка, съ какою онъ заснулъ вчера, смѣнилась легкимъ, чуть замѣтнымъ плавнымъ движеніемъ. Окно иллюминатора было открыто настежь и въ него въ каюту врывался теплый, напоенный какими-то пряными ароматами вѣтерокъ. Море не шумѣло, не било, не ударяло сильными ударами, отъ которыхъ содрогался весь корпусъ парохода, а тихо и ровно шипѣло, точно разсказывая какую-то чудную сказку востока.
Коля заглянулъ въ окно. Нигдѣ не было пѣнистыхъ задорныхъ «зайцевъ». Море, какъ темносиняя, кѣмъ-то колеблемая скатерть, морщилось и стремилось множествомъ рѣзво бѣгущихъ синихъ волнъ. Солнце нестерпимо блистало и вдали золотою полосой лежалъ недалекій берегъ.
Коля вскочилъ съ койки — онъ спалъ на самомъ верху, — и проворно сталъ одѣваться.
Подъ нимъ гудѣли голоса его спутниковъ. Они теперь всѣ точно ожили.
Молодой французъ-колонистъ, разсказывалъ, что сегодня ночью опять видѣли привидѣніе. Поваръ съ разсвѣтомъ досталъ телячій окорокъ, чтобы рѣзать ломти для утренняго завтрака. Онъ поставилъ его на столъ у окна и на минуту отлучился за большимъ ножомъ. Когда вернулся, — окорока не было. На блюдѣ лежали двѣ скомканныя десятифранковыя бумажки.