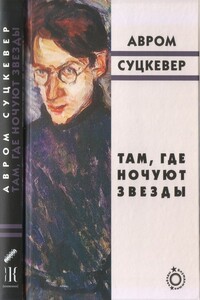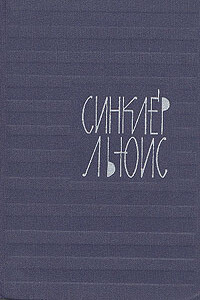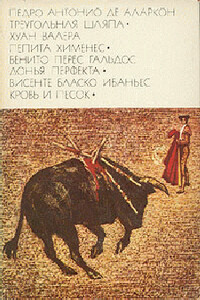Там, по шоссе, идет парень с большим тюком на плечах и жестяным чайником, заботясь о своей согбенной маме, не позволяя себе даже глотка воды. Позади них, по ту сторону леса и мшистой тьмы, бредут старуха и не отстающий от нее чужой русский солдатик-дезертир. За перевалом прошедшей ночи, по полю в окрестностях Минска бегут женщина с ребенком на руках, ее перепуганный муж и их старая покинутая мама. За спинами этих троих, за еще одним днем и одной ночью, у околицы деревушки Рекойн стоит и улыбается Фрума-Либча, а за Фрумой-Либчей сидит в Вильне в своей комнате мама, маленькая седая голубка. Хотя я все больше удаляюсь от нее, мама не становится меньше, словно она звезда.
Я слышу, как меня окликают по имени, и чья-то рука хватает меня за плечо. Это беженец из Польши.
— На, — подает он мне мой рюкзак. — А ты думал, что я его заберу.
— Откуда ты знаешь мое имя?
— Ты же просил помнить твое имя, если тебя застрелят, вот я и помню.
— Я просил тебя запомнить мое имя на случай, если меня застрелят? — Я смотрю на парня так, словно он посланец с того света и рассказывает мне, что я делал в предыдущем воплощении. — А зачем ты всю дорогу тащил мой вещмешок, если теперь ты мне его возвращаешь? Я думал, ты хочешь… Я дам тебе пару белья.
— Не нужно мне ни ваше белье, ни ваш Танах. — Его глаза снова загораются безумным гневом. — Я хочу кусок свинины, я хочу есть! Я сам не знаю, зачем убежал. Говорят, что евреи в Варшаве торгуют и живут.
Он ставит рюкзак рядом со мной и уходит, мотая головой из стороны в сторону. Его измученные ноги заплетаются, и мне кажется, что этот тощий паренек в распадающемся тряпье возвращается на тихую, солнечную, пустую дорогу, к густому темному лесу, в гниение мхов.
За эшелоном идет деревянная нога. Теперь еще и деревянная нога прибавилась к длинной шеренге преследующих меня теней.
В Борисове, по дороге на вокзал, я увидел в открытом окне еврея с подстриженной черной бородой. Я зашел к нему, запыленный, измученный жарой, и попросил пить. Еврей указал мне на сени с земляным полом. Я вышел в сени и сунул голову в стоявшую на скамье кадушку с ледяной водой. Из водяного зеркала, качаясь, на меня смотрело чужое, заросшее и дикое лицо. Я пил до тех пор, пока зеркало не подернулось рябью, а ледяная вода во мне не превратилась в свинец. Смертельно усталый, я вернулся к хозяину, чтобы поблагодарить его и пару минут передохнуть. Комнатка была почти пустой, без мебели. На голом, ничем не застеленном столе лежал кусок хлеба и нож, на стене висела фотография Политбюро, принимающего парад на Красной площади. Я попросил хозяина продать мне хлеб. Он отрезал полбуханки и, когда я дал за нее три червонца, взял только десять рублей, — ровно столько, сколько хлеб стоил ему самому. Печально качая головой, еврей рассказал мне, что у него два сына и оба на фронте. Я сказал, что немец уже под Борисовым, и спросил, почему он не бежит. Мой собеседник высунул из-под стола, за которым все время сидел, деревянную ногу и вздохнул:
— Как я могу бежать?
Хромая, он вышел из-за стола, забрался на стул и снял фотографию Политбюро на параде в Москве.
Теперь его деревянная нога преследует меня, возглавляя длинный ряд тянущихся за мной теней. Я слышу ее в грохоте колес, в лязге буферов, в бестолковом звоне связывающих вагоны цепей: размеренный деревянный стук заглушает все и не утихает ни на минуту.
Все эшелоны с закрытыми вагонами уже ушли, набитые беженцами, и мы, новые толпы, бегущие из Минска и Борисова, из Вильны и Ковны, едем на открытых платформах, на которых в более спокойные времена возят камни и кирпич, железный лом и уголь. Мы лежим вповалку — всюду руки и ноги, головы и плечи. Те, кто без вещей, легко впихиваются в любой свободный уголок, а те, кто с багажом, вырывают место для своих пузатых мешков зубами и ногтями. При каждой остановке эшелона возникают скандалы. Плохо устроившиеся пассажиры хотят поменять свои тесные места. Глаза горят, лица искажены, на губах выступает пена, руки сжимаются в кулаки. Стычки длятся до тех пор, пока локомотив не засвистит, поезд не тронется и беженцы, притихшие, онемевшие и сгорбившиеся, не начнут раскачиваться под стук вагонных колес.