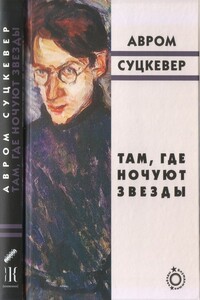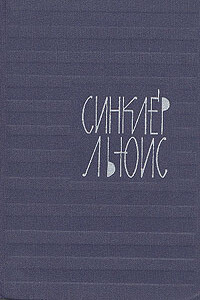— Иди, иди, я тебя нагоню, я не заберу твоего вещмешка! — Позади себя на шоссе я вижу беженца из Польши, он спускается под гору и поднимается вновь. Надо бы подождать его и спросить, не встречал ли он старой женщины и солдата.
За беженцем едут военные на мотоциклах. Они едут медленно, ряд за рядом, во всю ширину шоссе и сидят на мотоциклах, словно высеченные из камня. На их касках, низко надвинутых на лбы, ослепительно сверкают свастики. Мотоциклисты улыбаются, они не смотрят ни направо, ни налево, они смотрят только на меня и улыбаются, как призраки: «Не убежишь!»
Немцы, говорю я себе с холодным спокойствием и сам удивляюсь своей невозмутимости. Я схожу с дороги и иду влево, к лесу. Сделав всего несколько шагов от шоссе, я вижу, как из-за дерева с густыми ветвями высовывается голова. Появившаяся вслед за ней рука машет мне, чтобы я подошел. Я иду к тому, кто меня зовет, и чувствую, что тоже высечен из камня, как те мотоциклисты на дороге. Вышедший из-за дерева человек стоит с обломанной веткой в руке, опираясь на нее, как на посох, на нем косоворотка под жилеткой, пущенная поверх штанов.
— Кто это там едет по шоссе? — спрашивает он.
— Немцы, — отвечаю я.
Он столбенеет и долго смотрит на меня, пораженный моим равнодушием. Я вижу, что он не верит в то, что я говорю.
— Еврей? — спрашивает он меня по-еврейски.
— Еврей.
— Пойдем, — коротко говорит он и начинает пробираться в глубь леса. Я пробираюсь за ним и время от времени оглядываюсь: на расстоянии двух шагов за нами следует беженец из Польши с моим рюкзаком за плечами.
Прежде мне казалось, что пожилая женщина в длинном пальто — та вчерашняя старуха, брошенная сыном и невесткой; теперь мне кажется, что и лес вокруг — тот самый, в котором я пролежал до рассвета. Мне представляется, что этот лес шел вместе со мной и за ночь стал старше, гуще, непроходимее и темнее. От тесноты столетние стволы наползают друг на друга; хвойные и лиственные деревья стоят вперемешку, путаются ветвями и смотрят на приблудных чужаков. Мы, трое беглецов, тоже переглядываемся, как чужие, осторожно принюхиваемся друг к другу, словно сбившиеся в стаю звери, гонимые охотником.
У еврея в белой косоворотке доброжелательное лицо, полные щеки не знавшего голода человека и теплые карие глаза. Он говорит мне, что он из Бобруйска и что он был на партийной работе в освобожденной Литве. Затем он бросает взгляд на низенького исхудавшего беженца из Польши, который выглядит как подросток:
— Почему от тебя так воняет? — спрашивает его еврей из Бобруйска. — Ты не ходишь в баню? В каждом советском городе есть баня.
— Это от вас, советских, воняет. — Беженец из Польши торопливо отстраняется от нас.
Бобруйчанин удивленно смотрит на меня, как будто спрашивает, с кем я его здесь свел. Я приставляю палец к виску, давая понять, что беженец из Польши тронулся умом, и подмигиваю новому знакомцу, чтобы он оставил сумасшедшего в покое.
— Вы уверены, что на дороге немцы? — спрашивает бобруйчанин так, словно он и меня подозревает в том, что я не в своем уме.
— Они уже ставят там посты. — Я показываю ему на сереющее за деревьями шоссе, по которому снуют люди.
— Я вижу фигуры, но того, что это немцы, я не вижу, — говорит бобруйчанин и все-таки выбраться из укрытия, чтобы прояснить обстановку, боится. С минуту он сидит, склонив голову. Потом вытаскивает из-под своей белой блузы какие-то бумаги, просматривает их и рвет на мелкие кусочки. При этом он морщит лоб и мрачнеет, словно стараясь запомнить все, что там написано.
— Вы тоже порвите свои документы. — Он глубоко и тяжело вздыхает, как будто ему приходится сдирать кожу с собственного тела. — Если мы попадемся, немцы не должны догадаться, что мы евреи. Я белорус, и мы друг с другом не знакомы.
Я достаю свой паспорт и открываю его на странице с фотографией. Прежде чем порвать его, я хочу еще раз на нее взглянуть. Беженец из Польши, все утро молчавший, утонувший в гниении своих тряпок и окружающей дикости, вдруг восклицает:
— Не рви его!
Я кладу паспорт назад во внутренний карман. Он прав, этот польский безумец. Если я попадусь, я все равно не смогу обмануть немцев и уверить их, что я не еврей; а если прорвусь, то без паспорта в Советах и дня не проживу спокойно. Бобруйчанин вертит в больших руках тонкую и узкую книжечку, растерянно смотрит на меня и наконец спрашивает беженца из Польши: