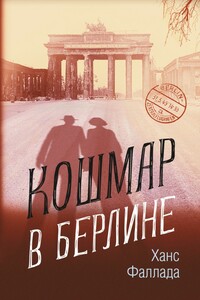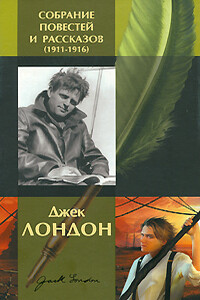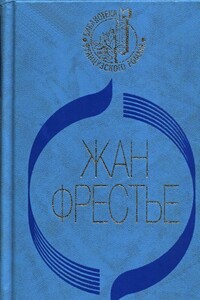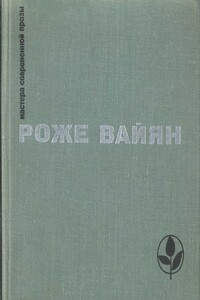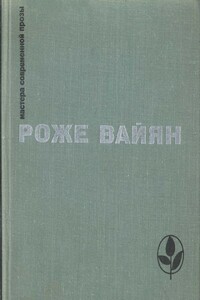Малыш кричит! Маленькая, светлая комната оглашается его писком, он кричит, громко, пронзительно, откуда только голос берется. Он становится пунцовым, собственно говоря, не мешало бы ему передохнуть; Пиннеберг не отрывает от него взгляда, но дело от этого вовсе не выигрывает.
— Может, еще раз мне попробовать? — мягко спрашивает Овечка.
— Пожалуйста, — говорит он. — Если уверена, что на этот раз у тебя получится.
И на этот раз у нее получается. Совершенно неожиданно все проходит гладко, в два счета.
— Не надо только нервничать, — говорит она. — В общем-то, невелика премудрость.
Малыш лежит в своей постельке и, раз начав, не перестает кричать. Он лежит, глядит в потолок и кричит.
— Что делают в таких случаях? — шепотом спрашивает Пиннеберг.
— Ничего, — отвечает Овечка. — Пусть кричит. Через два часа дам ему грудь, тогда и замолчит.
— Но нельзя же, чтобы он кричал два часа подряд!
— Можно. Так лучше. Ему это не повредит.
«А нам?» — хочет спросить Пиннеберг. Но не спрашивает. Он подходит к окну и глядит в сад. За спиной кричит его сын. И опять все совсем не так, как ему представлялось. Он-то думал тихо-мирно позавтракать с Овечкой, он даже вкусненького припас на этот случай, но если Малыш задает такого ревака… Комната полна его ревом. Пиннеберг прижимается лбом к стеклу.
Овечка подходит к нему.
— Неужели его нельзя немножко поносить, покачать? — спрашивает он. — Я, по-моему, от кого-то слышал, так всегда делают, когда маленькие кричат.
— Стоит только начать! — возмущенно говорит Овечка. — Тогда только и знай что бегай с ним по комнате да убаюкивай.
— Ну, один-то разочек можно! Ведь он сегодня первый раз с нами! — просит Пиннеберг. — Надо, чтобы ему с нами хорошо было!
— Вот что я тебе скажу, — говорит Овечка, и вид у нее очень решительный. — Этого мы делать не будем. Сестра сказала, самое лучшее — дать ему выкричаться, первые ночи он будет орать не переставая. По всей вероятности, будет…— взглянув на мужа, торопливо поясняет она. — Может, конечно, и не будет. Но как бы там ни было, его ни в коем случае нельзя брать на руки. Рев ему не повредит. А потом он привыкнет к тому, что ревом все равно ничего не возьмешь.
— Так-то оно так, — говорит Пиннеберг. — Только, на мой взгляд, это слишком жестоко.
— Но ведь так будет лишь первые две-три ночи, милый. Зато мы выиграем оттого, что он приучится спать без просыпу. — В ее голосе звучат совратительские нотки. — Сестра сказала, это единственно правильный путь, вот только из сотни супружеских пар едва ли найдутся три, у которых хватает на это выдержки.
А как было бы хорошо, если бы у нас хватило.
— Может быть, ты и права, — говорит он. — Ночью он и вправду должен спать без просыпу, это понятно. Но днем — днем я бы спокойно мог поносить его на руках.
— Ни в коем случае, — говорит Овечка. — Ни под каким видом. Он ведь еще не различает, где ночь, где день.
— Не говори так громко, это, наверное, мешает ему.
— Да он еще ничего не слышит! — торжествующе заявляет Овечка. — Первые недели можно шуметь и галдеть сколько угодно.
— Ну, не знаю!.. — говорит Пиннеберг; Овечкины взгляды его ужасают.
Но потом все улаживается. Малыш перестает кричать и лежит смирно. Они спокойно завтракают, как Пиннебергу и хотелось. Время от времени он встает, подходит к постельке и глядит на ребенка, который лежит с открытыми глазами. Пиннеберг подкрадывается на цыпочках, и сколько бы Овечка ни говорила, что это совершенно излишне, что Малыш еще ничего не замечает, — Пиннеберг все равно подкрадывается на цыпочках. Потом он снова садится за стол и говорит:
— А что, ведь, в сущности, это так хорошо: теперь у нас каждый день есть на что радоваться.
— Еще бы, — отвечает Овечка.
— Он будет расти, — продолжает Пиннеберг, — научится говорить… Когда, собственно, дети начинают говорить?
— Бывает, уже в год.
— Уже? Только, хочешь ты сказать? Я и сейчас-то уже рад не знаю как, что буду ему сказки рассказывать. А когда он научится ходить?
— Ах, милый, все это не так скоро. Сперва он научится держать головку. Потом сидеть. Потом ползать. А уж потом только ходить.
— Вот я и говорю: каждый день что-то новое. Я так рад.