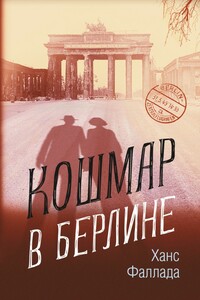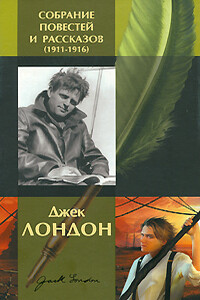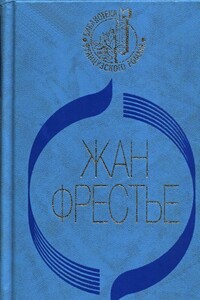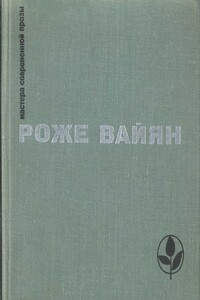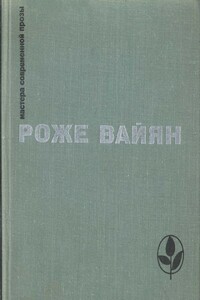— Это его коляска, — поясняет мать.
— Двадцать пять марок — не дороговато ли за такую немодную коляску? — спрашивает Овечка.
— Могу дать вам в придачу подушки, — говорит хозяйка. И волосяной тюфячок. Он один стоил восемь марок.
— Так-то оно так…— нерешительно тянет Овечка.
— Двадцать четыре марки, — говорит кондуктор, бросая взгляд на жену.
— Ведь она почти новая, — говорит хозяйка. — А низкие коляски вовсе не так уж практичны.
— Ну как?.. — с сомнением спрашивает Овечка.
— Надо брать, — отвечает Пиннеберг. — Бегать-то нам особенно некогда.
— Так-то оно так…— говорит Овечка. — Ну ладно: двадцать четыре марки — С подушками и тюфячком.
Они тут же отдают деньги и забирают покупку. Белокурый мальчик горько плачет: у него отнимают его коляску, и, видя, как он к ней привязан, Овечка несколько примиряется со своей немодной покупкой.
Они выходят на улицу. По коляске не видно, есть ли в ней еще что-нибудь, кроме подушек. С таким же успехом в ней мог бы лежать и ребенок.
Пиннеберг то и дело кладет руку на край коляски.
— Теперь мы — заправская супружеская чета, — говорит он.
— Да, — отвечает она. — А коляску придется все время держать внизу, в мебельном складе. Нехорошо это.
— Нехорошо, — соглашается он.
В понедельник вечером, вернувшись от Менделя домой, Пиннеберг спрашивает:
— Ну что, пришли деньги из больничной кассы?
— Нет еще, — отвечает Овечка. — Должно быть, завтра придут,
— Да, конечно, — говорит он. — Так скоро и не могли прийти.
Но денег нет и во вторник, а первое уже на носу. Жалованье все вышло, а от неприкосновенного запаса в сто марок осталась едва ли половина.
— Их ни в коем случае нельзя трогать, — говорит Овечка. — Это все, что у нас осталось.
— Да, — говорит Пиннеберг и начинает потихоньку злиться. — Деньгам пора бы прийти. Завтра утром пойду поддам пару.
— Подожди до завтрашнего вечера, — советует Овечка.
— Нет, завтра в обед пойду.
И он идет. Времени в обрез, об обеде в столовой нечего и думать, и проезд стоит сорок пфеннигов. Но он понимает: тот, кто должен платить, обычно не спешит, спешит тот, кто получает. Нет, он не намерен скандалить — он просто поддаст пару, чтобы подтолкнуть дело.
Так вот, он приходит в правление больничной кассы. Правление со швейцаром, огромным вестибюлем и хитро разгороженными залами, где находятся кассы, — словом, образцовое правление.
Сюда приходит маленький человек Пиннеберг, он хочет получить свои сто, а может, и сто двадцать марок — он понятия не имеет, сколько останется за вычетом больничных расходов. Он приходит в огромное роскошное, светлое здание. Он стоит такой маленький, такой невидный, посреди гигантского зала. Пиннеберг, дорогой мой, сто марок? Тут ворочают миллионами. Для тебя что-то значат сто марок? Для нас они ровно ничего не значат, для нас они не играют никакой роли. То есть какую-то роль они все же играют — в этом ты со временем убедишься. Хотя этот дом построен на твои взносы и на взносы таких же маленьких людей, как ты, но это не твоего ума дело. Мы распоряжаемся твоими взносами в полном соответствии с законом.
Утешительно все-таки видеть, что за перегородкой сидят такие же служащие, как и он сам, в известном смысле его собратья. А то он совсем оробел бы среди всего этого мраморно-эбенового великолепия.
Пиннеберг оглядывается по сторонам. Ага! Вот это-то ему и нужно: окошко на букву «П». Тут сидит молодой человек, успокоительно доступный, не за запертой дверью, только за перегородкой.
— Пиннеберг, — говорит Пиннеберг. — Иоганнес Пиннеберг. Членский билет номер шестьсот шесть — восемьсот шестьдесят семь. У нас родился ребенок, я уже писал вам относительно пособия по родам и кормлению…
Молодой человек роется в картотеке, у него нет времени взглянуть на посетителя. Но все же он протягивает руку и произносит
— Членский билет.
— Пожалуйста, — говорит Пиннеберг. — Я уже писал вам…
— Свидетельство о рождении, — произносит молодой человек и снова протягивает руку.
— Я уже писал вам, коллега, — кротко говорит Пиннеберг, — я уже прислал вам все справки, полученные из родильного дома.
Молодой человек поднимает глаза и видят перед собой Пиннеберга.