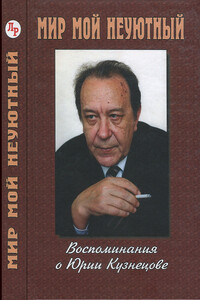Так спасся, унесясь на фарфоровом коне, и юный принц в клетчатом берете с оранжевым пером. Как попал в наш дом этот принц, бабушка уже не помнила, но твёрдо помнила, что о принце этом, вернее, о его «внутренностях» (верхняя часть снимается, и в нижней обнаруживаются маленькая чернильница и песочница) у неё с Петровым-Ульяновым тоже шёл какой-то разговор. Почему Ленин обратил внимание на принца — бабушка тоже не помнила (очевидно, просто, чтоб заполнить возникшую паузу), но то, что Ленин взял со стола листок почтовой бумаги, что-то написал на нём, посыпал написанное золочёным песком из песочницы, а потом сказал: «Вот и посыпался песочек из нашего с вами принца», — запомнила хорошо.
— Но, бабушка, — удивлялся я, — ведь в конце девятнадцатого века давно уже не было песочниц, были промокашки.
— А вот в принце был ещё, сохранился, — невозмутимо отвечала бабушка.
— Странно…
— Ничего странного. Сохранился, и всё.
— А что Ленин написал на бумажке? — не унимался я.
— Не помню уж. Да, вероятно, и не читала. Так, несколько каких-то слов…
— И где же эта бумажка? Выкинула небось?
Бабушка смущалась:
— Выкинула, вероятно.
Я укоризненно качал головой, и бабушка ещё больше смущалась.
Бабушка прожила 86 лет. Первую половину в девятнадцатом веке, вторую в двадцатом. Как нетрудно догадаться, я помню её во второй половине второй половины её жизни. Тогда она уже не собирала средства для русских эмигрантов и студентов и не перевозила через границу в своей шляпе экземпляры «Искры» (было у неё и такое), а была она просто иждивенкой и домохозяйкой, а для нас с друзьями просто бабушкой, умевшей варить чудное варенье (конечно, когда был сахар), печь изумительные куличи (и всему этому она научилась в Смольном!), а главное, с удовольствием пичкала всем этим наши ненасытные глотки, привыкшие в основном к пшену и вобле.
Кроме того, бабушка ходила по «сорабкопам» и на базар — мать и тётка на работе, я в школе, — и в эту же самую школу, объясняться с математиком или физиком, а по утрам, перед школой, кормила меня, потом, после «сорабкопов», готовила обед, ну и т. д. до вечера, когда ей разрешалось только полоскать и вытирать чайную посуду. Где-то между этим или после этого она что-то обязательно шила, а улегшись в кровать, ещё читала французские романы. И всё она успевала — тихо, спокойно, не суетясь. А когда мы жили в Алуште, высоко на горе, где пересохли все цистерны и воду приходилось носить в вёдрах из города (километра два в гору), бабушка считала своим долгом нести маленький бидончик с водой и никому не разрешала ей помочь. Думаю, что в Смольном этому не учили.
Но не только трудностей не боялась бабушка, она вообще была бесстрашна. Кроме коров и гусей она не боялась никого. Ни «белых», ни «красных», ни петлюровцев, ни гайдамаков, ни даже управдома, перед которым все трепетали. Обстрелов она тоже не боялась.
— Алина Антоновна, — прибегает запыхавшийся Герасим-швейцар, — обстрел начался. Надо в подвал.
— Ну и бог с ним, с обстрелом. Посижу, пошью чего-нибудь.
Это, конечно, если все дома были. Если же кого-нибудь не хватало, выходила на балкон и под гул канонады стояла тут — не сходила с него до момента возвращения отсутствующего.
Я говорил уже о том, что её все любили — молочницы, нищие, сосед Алибек, целовавший обязательно ей руку, две старушки-сестры из 19-й квартиры, Анна и Клара Абрамовны, приносившие ей почему-то всегда к пасхе изюм для куличей, и ещё многие и многие. Но больше всего, по-моему, её полюбили два «ставших у нас на постой» красноармейца. Одного звали Ляконцев, другого уж не помню как. Я, мальчишка лет восьми-девяти (ходил уже в школу), был, конечно, в восторге — винтовки, штыки, котелки, запах махорки на всю квартиру, да и сами красноармейцы что надо — здоровые, обветренные, с хриплыми голосами и добродушными деревенскими улыбками.
Бабушка их сразу же накормила чем-то, но когда увидела, что они, скинув шинели и гимнастёрки, собрались бить вшей, строго вдруг сказала (в первый и последний раз я услышал нечто вроде металла в её голосе):
— Нет! Это уже нет. Принесите дров и воды, и я натоплю вам ванну.
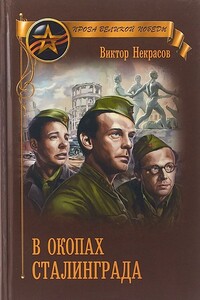


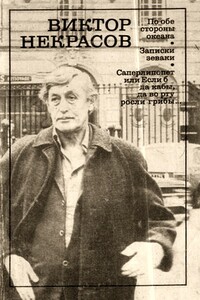
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)