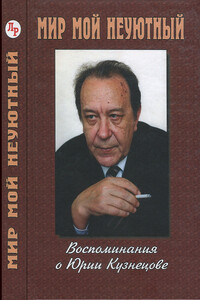Была она ко всему ещё и красива. Красота, которую не искажает старость, по-видимому, и есть подлинная красота. И дело даже не в правильности или благородстве черт, а в том, чего на фотографии из альбома не увидишь, — в выражении глаз и в улыбке, которые на всю жизнь остались молодыми.
Думаю, что именно её взгляд и улыбка покорили некоего господина с бакенбардами, который на балу в Смольном пригласил Алину Эрн на первую мазурку. Этим господином с бакенбардами был самодержец всероссийский император Александр II.
Вот так моя бабушка начала свой жизненный путь — папа с Анной на шее, институт благородных девиц, трогательные розы в белой рамочке, мазурка с царём…
А потом…
Потом жизнь в имении своих родителей в Симбирской губернии, в Бугурне — я никогда там не был, но в детстве очень ярко представлял его себе: парк со столетними дубами или липами, белый дом с колоннами, варят варенье, словом — «Евгений Онегин» в Большом театре, — потом, очевидно, выезды в свет, замужество, дети… Дальнейшее я знаю в основном из рассказов матери и, главное, тётки Софьи Николаевны Мотовиловой, к воспоминаниям которой, опубликованным в № 12 «Нового мира» за 1963 год («Минувшее»), адресую всех читателей, интересующихся жизнью русской интеллигенции левого направления тех давних лет.
Так вот, с появлением детей — четыре дочери, младшая, Ниночка, умерла ещё ребенком — жизнь несколько изменилась. Меньше липовых аллей, больше симбирских улочек, а потом, после смерти дедушки, симбирские улочки сменились на лозаннские в Швейцарии. Почему бабушка одна с тремя детьми поехала вдруг в Швейцарию? Два имения — в Бугурне и в Цельне — двух маминых бабушек, Валерии Францевны и Луизы Францевны (моя бабушка вышла замуж за своего двоюродного брата) — и вдруг ни с того ни с сего Швейцария? Как мать сейчас объясняет, просто для того, чтоб сменить обстановку после смерти её отца. «Ну, и для того, чтоб научились французскому языку…» — добавляет она, мило улыбаясь.
Учились они французскому языку что-то очень долго. Потом медицине — мать, геологии — тётка. А бабушка, как это называлось, «вела дом» и вместе с женой Плеханова успевала ещё устраивать благотворительные концерты для русских эмигрантов и студентов. У бабушки в доме на рю Мопа, 55, бывал и сам Плеханов, бывал и Р. Э. Классон, муж бабушкиной сестры, видный русский марксист, на квартире которого, кстати, Ленин познакомился с Надеждой Константиновной Крупской. Был на Мопа и Ленин.
Тут я позволю себе привести несколько строк из «Минувшего» моей тётки.
«Ленина я помнила ещё с 1895 года, когда он в свой первый приезд в Швейцарию заезжал к нам и провёл у нас полдня.
Было это так. Горничная сказала моей маме, что её кто-то спрашивает.
Вошёл незнакомый человек и сказал, что его прислал Классон. Мама ввела его в гостиную, там у нас на столике лежали социалистические газеты. Человек этот бросился к столику и, не обращая внимания на маму, весь погрузился в газеты.
Потом они с мамой разговорились. Мама должна была объяснить ему, как проехать к Плеханову.
Обращаясь к маме, незнакомец сказал:
— А мы с вами из одного города, из Симбирска.
— Как же ваша фамилия?
— Петров, — ответил он.
(Ленин одно время, как известно, подписывался Петровым.)
— Какой же это Петров, — раздумывала мама, — может быть, сын булочника?
— Да нет, — ответил он, — этого Петрова вы не знаете.
За ужином Петров был очень сдержан, разговаривал мало. Позже, когда к нам приехал Классон, он спросил маму:
— Был у вас Ульянов?
И тут всё выяснилось…»
Есть и другое семейное предание — рассказано оно было мне самой бабушкой, — связанное тоже с визитом Ленина на Мопа и старинной фарфоровой чернильницей в виде юного всадника в клетчатом берете с пером. Чернильница эта сохранилась и стоит на специальной полочке под большой застеклённой цветной (вернее, раскрашенной, но очень удачно, хотя это было лет сто тому назад) фотографией Шильонского замка. Почему всё это сохранилось и почему именно это (какие-то прадедовские итальянские акварели в рамках, ломберный столик, бабушкины «розы»), а не то (Руссо, Вольтер, Гельвеции в кожаных, тиснённых золотом переплётах или «подшивка» газеты «Радио» за 1929 год, издававшейся мною с другом в отроческие годы), — всё это до сих пор мне не совсем ясно. Уходя из Киева, немцы сжигали дома, предварительно очищая квартиры. Но делали это со свойственной немцам педантичностью и систематичностью — не торопясь, загодя, этаж за этажом, квартира за квартирой. И только днём. Изгоняемые жильцы пользовались этим и по ночам переносили вещи на свои новые места жительства. То же делали и моя мать с тёткой. И начали, по их словам, с наиболее лёгких вещей — картин, разных фарфоровых статуэток, дорогих как память о чём-то и о ком-то, оставив тяжёлые книги под конец. Конец пришёл скорее, чем его ожидали, и все книги (а их было очень много) сгорели в своих прекрасных красного дерева шкафах.
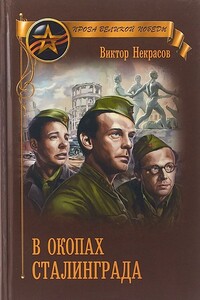


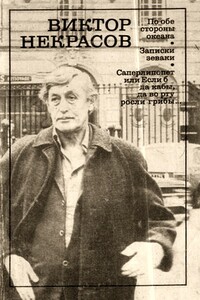
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)