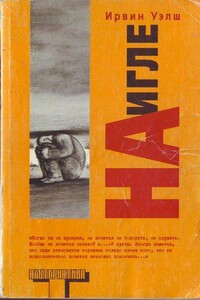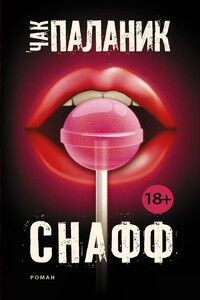F как в Family
Отцы, привязанность
Было двенадцатое декабря, двенадцатый день двенадцатого месяца. А было двенадцать. На электронных часах на приемнике у него на столе светилось 12:01. А ждал, пока не высветится 12:12. Ему казалось, что в это мгновение он обязательно что-то почувствует, проникнется ощущением великого космического равновесия, когда все во Вселенной будет по-настоящему правильным.
В 12:11 раздался стук в дверь. Это был Терри, А понял сразу. Терри он знал недавно, но уже узнавал его стук. Было в нем что-то такое, что отличало его от всех остальных: более спокойное, более терпеливое. Терри стучался по-настоящему. В смысле, действительно из вежливости, а вовсе не для того, чтобы соблюсти приличия.
— Войдите, — сказал А, хотя дверь запиралась снаружи.
Терри вошел.
— Твоя мама… — сказал он с порога. — Не знаю, как и сказать…
И хотя он еще ничего не сказал, А уже понял, что произошло.
Лицо А застыло, пока он пытался осмыслить известие. Осознать этот новый удар судьбы. А потом он весь сжался, и вот тогда полились слезы.
Уже три месяца он знал, что мать умирает, но это знание не подготовило его к случившемуся. Равно как и долгие перерывы, когда они с мамой не виделись по нескольку недель и даже месяцев. Он совсем от нее не отвык, лишь сильнее по ней скучал. И он заплакал. От жалости к маме, от жалости к себе, из чувства вины, из-за того, что теперь он потерял то последнее, что еще соединяло его с любовью.
Терри приобнял его за плечи. Как будто ему было не все равно. Как будто он мог и хотел стать для А новым звеном, которое удержит при нем любовь.
В последний раз, когда мать приходила его навестить, от нее буквально разило духами. Как будто, облившись туалетной водой, она могла убедить персонал исправительного заведения, что она — хорошая мать. Была хорошей матерью. Хотя, может быть, она просто пыталась заглушить запах смерти. Но в основе чарующего аромата духов лежит запах мертвых цветов и гниющих плодов, и А все время казалось, что мать разлагается у него на глазах.
Она никогда не красилась, когда приходила к нему в колонию. В первый раз все закончилось размазанной тушью, растекшимся гримом грустного клоуна. А может быть, мать вообще перестала краситься. В том городе, куда ее переселили, она никого не знала, так какой смысл наводить красоту? С отцом А она не общалась. И вообще как будто забыла, кто он такой. Она выглядела, как старуха, и А в какой-то момент осознал, что она и вправду уже старуха. Потому что, хотя она лишь приближалась к тому рубежу, когда о женщине говорят, что она «среднего возраста», этот самый «средний возраст» подразумевает, что у человека впереди еще полжизни, а у его мамы не было никаких «впереди» и «полжизни». Она сильно болела и выглядела очень плохо, под стать самочувствию. Ее кожа как будто провисла, лицо было землисто-желтым, цвета застывшего жира на немытой тарелке. Когда мать сказала, что у нее рак яичников, у А возникло гнетущее ощущение, что это он виноват, только он: первое недоброкачественное образование, зародившееся в этих самых яичниках.
Отец не пришел к А ни разу. А увиделся с ним только на похоронах, впервые за полтора года. Больше всего А поразило, что отец выглядел элегантно и стильно. Он никогда в жизни не видел отца в костюме, даже на суде. Костюм папе шел, папа в нем очень смотрелся, даже, может быть, чересчур. Можно, наверное, сказать и так: папа не столько скорбел по маме, сколько смотрелся в костюме. И уж точно не столько обрадовался встрече с А, сколько, опять же, смотрелся в костюме.
Народу на похоронах было мало. Оба, и мама, и папа А были единственными детьми у своих родителей, и А был их единственным ребенком. Все бабушки-дедушки умерли уже давно. В общем, их род вымирал.
Весь похоронный кортеж состоял из одной машины. Из двух, если считать катафалк с маминым гробом. Из трех, если считать неприметный автомобиль с двумя сотрудниками из отдела защиты, которых выделили для прикрытия. На всякий случай.