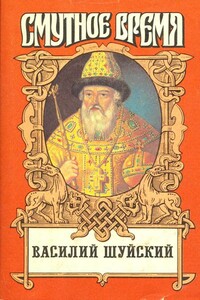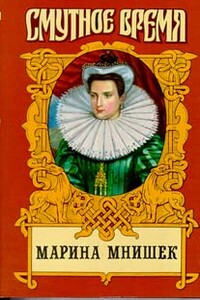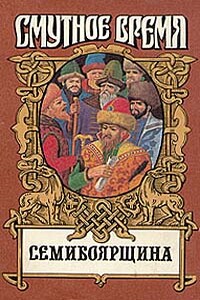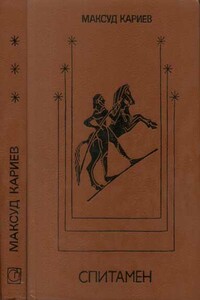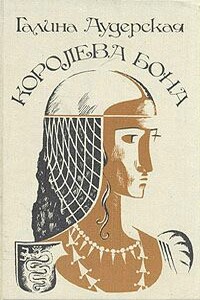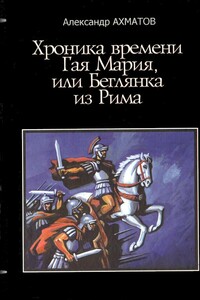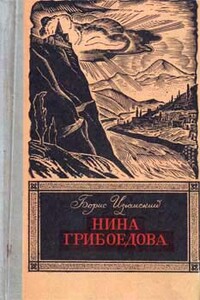— Казна у меня богатая, пану Юрку дам сто тысяч!
У Басманова едва не сорвалось с языка насмешливое: «Дорого обходятся Мнишеки Москве, государь! По миру нас пустят». Однако сдержался. Басманов к царским разгулам привык, сам их не чурался. Знал Петр Федорович, не царевич перед ним, а беглый монах, однако, перейдя со стрелецким войском к самозванцу и открыв ему дорогу на Москву, он служил Отрепьеву верно. Полюбил Басманов самозванца. Какие речи на думе держит, польским языком, что русским, владеет и грамоты папы римского, писанные на латинском, читает легко! Такового не то что боярам, государям не дано было. Ни Грозный, ни Годунов не владели подобной премудростью.
Басманов — первый человек при самозванце, и кто ведает, имел бы он такую власть при Федоре Годунове или оттеснили его Голицын, Шуйские и другие князья древнего рода?
— Что молчишь? — подал голос Отрепьев. — Аль скучно? Черниц в монастыре сколь, а ты в заботе. — И рассмеялся, довольный.
Марине нравился Басманов. Он не то что Димитрий, — и рослый, и крепкий, и лицом красив.
Отрепьев нахмурился, разлил по серебряным чашам заморское вино, густое и красное, как кровь. Протянул Басманову:
— Пей!
Дождавшись, когда тот опорожнил чашу, указал на дверь:
— Убирайся! Все убирайтесь, вдвоем с Мариной останусь.
— Негоже, государь, — лавка под Басмановым жалобно скрипит. — Чать, в монастыре.
— Уходите! — зло крикнул Отрепьев и отвернулся.
Басманов пожал плечами, сказал Вишневецкому:
— Пойдем, князь. Слыхал государево слово?
На монастырском дворе шляхтичи в ожидании царя разожгли костры, иные в кельи к монахиням ломились.
Старая игуменья Анастасия, маленькая, костистая, бродила по монастырю, гремела посохом, бранила шляхтичей. В полночь затворилась с ключницей в келье.
На рассвете услышала: самозванец обитель покидает. Высунула голову в дверь, прислушалась — вдали стихал топот копыт. Выкрикнула вслед:
— Антихристу уподобился! — И на ключницу нашумела: — Чего ждешь? Ворота запри!
Повязав голову черным платочком, вошла в келью инокини Марфы:
— Сестра, не спишь?
Марфа на коленях поклоны отбивала, крестилась истово. Услышав голос игуменьи, поднялась.
— Великий грех на твоем сыне, сестра Марфа. Государево достоинство не блюдет.
— Царь перед единым Богом в ответе за свои деяния, мать Анастасия. Не нам судить государя.
Игуменья речь на иное повернула:
— Латинянка во всем виновата. Поговори с ней, сестра, а мы за царя помолимся. Не блюдет государева невеста монастырского устава, нашей трапезной чурается. Своих поваров держит. Срамно! У кельи день и ночь рыцарь стражу несет. И это в женской обители. Ай-яй!
Марфа проговорила:
— На этой неделе съедет Марина из монастыря в царские хоромы.
— Не заразил бы монахинь блуд государевой невесты… Молодые черницы на шляхтичей поглядывали, сама видела. — Постучала посохом о пол. — Наложу епитимью[28] на грешниц! Постом и молитвами изгоню из них бесовское вожделение!
Охая, уселась в креслице. Инокиня Марфа закрыла Евангелие, поправила огонек свечи. Пригорюнилась.
— И на мне грех, мать Анастасия. Как стоять буду перед Господом?
Свела брови на переносице, застыла.
— Облегчи душу, сестра Марфа, покайся! — просит игуменья.
Инокиня покачала головой.
— Нет, мать Анастасия, моя вина, мне и крест нести.
Отвернулась, больше ни слова. Игуменья сказала недовольно:
— Гордыня тебя обуяла, сестра Марфа!
Встала, обиженно поджала губы, покинула келью.
* * *
Мельнице на Неглинке у Кутафьей башни, срубленной из бревен, столько же лет, сколько и ее хозяину. От времени бревна почернели и с засолнечной стороны покрылись сырым мхом. Когда родился нынешний мельник, в тот год его отец построил эту мельницу.
От весны до поздней осени мельница бездействовала. Она выжидала своего часа, когда завертятся жернова и зерно нового урожая потечет горячей мукой. Но до того надо пережить лето и осень, да чтобы были они урожайными. Тогда из муки свежего помола напекут бабы духмяных хлебов с хрустящей корочкой, пирогов и куличей разных.
Покуда же Неглинка с высоты запруды лила воду на лопасти застопоренного мельничного колеса, и оно вздрагивало, как норовистый конь.