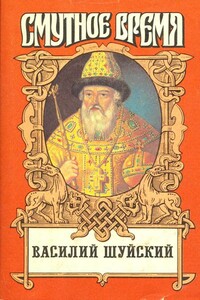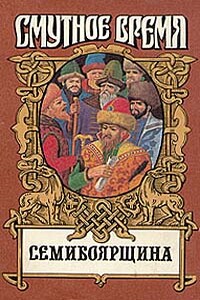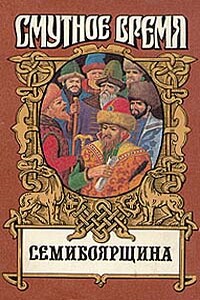* * *
Инокиня Марфа, покуда отделывали келью в Вознесенском монастыре, жила в кремлевских дворцовых покоях.
Затихли на время недоброжелатели Отрепьева, вона как сердечно встретились самозванец с инокиней!
Переживал князь Шуйский. Хоть и знал, что царица Мария Нагая злопамятна и не могла она забыть, как он, Шуйский, тогда в Угличе, в угоду Борису Годунову, показал на Нагих (они-де повинные в угличском мятеже), однако в душе надеялся, что Марфа не станет мстить ему — все же иноческий сан носит.
Задумывался князь Василий Иванович: кто знает, как будет дале, коли сама инокиня Марфа признала самозванца за сына Димитрия.
Похудел Шуйский, осунулся. Мучила его бессонница. Под глазами мешки набрякли, и левая рука в плече болеть начала. Потрет ее князь Василий, боль на время уймется, потом начинается сызнова. А все от волнений. Хоть и вернул самозванец Шуйского в Москву, однако во дворец его не звали.
Корил себя Шуйский, не щадил: «Эх, дурак же ты, князь Василий, либо ловчить разучился, иль нюх потерял? При царе Грозном тебя привечали. Годунов хоть и недолюбливал, а при себе держал. Ноне от самозванца пострадал. Теперь князь Васька Голицын в великих дворецких ходит, Романов в митрополитах, а он, Шуйский, в опале…»
* * *
Октябрь моросил холодным мелким дождем. Сыпался лист с деревьев, устилал землю золотисто-желтым и багряным одеялом.
И недели не минуло с Покрова, как от Архангельского собора, что в Кремле, отъезжал посольский поезд. Дьяки и подьячие, разная челядь посольская, отстояв молебен, рассаживались по возкам и телегам, взгромождались на коней.
Сам посол царский Афанасий Власьев, великий секретарь и казначей государев, кряхтя влез в громоздкую, обитую черной кожей карету, велел трогать.
Дорога предстояла длинная и утомительная. Мыслимо ли, от Москвы до Кракова! И нудно, и зад отсидишь. А что поделаешь? Ехал Власьев не по своей охоте.
Берег он паче глаза грамоты, одну — к королю Сигизмунду от самого государя Димитрия, другую — от инокини Марфы к воеводе Мнишеку.
От дождя крупы коней мокрые, набрякла одежда ездовых и охранной дружины, в карете сыро и зябко. Забился великий секретарь и казначей в угол на подушки и коий раз думает в страхе:
«Кабы только невесту забирать, а то ведь за жениха обручаться надлежит. Это ему-то, Афанасию Власьеву, в шестьдесят годков!.. Ха! Говаривают, невеста ягодка, а он, Афонька, вокруг нее должен петухом скакать, увиваться…»
В ногах у него сундучок с драгоценностями, подарки царя Димитрия Марине и королю. Государь, провожая Власьева, наказывал:
— Ты, Афонасий, коли случится, заведет Сигизмунд с тобой речь, твоего дела не касаемого, ответствуй одно: не ведаю. Я этих панов вельможных знаю, им чуток попусти, болтни языком, они вмиг ухватятся, раздуют кадило. Выпытывать они горазды. А паче всего остерегайся чего посулить от моего имени. Ни-ни!
«Ты, государь, напрасно об этом печалишься, — думал Власьев, — К чему мне встревать в то, что другим решать дадено? Мне бы впору свое исполнить да в Москву воротиться…»
— Эх-хе, по всему не скоро это случится, — бормотал великий секретарь и казначей и поглядывал в оконце кареты на затянутое тучами небо, окликал ездовых:
— Не видать ли просвета?
— Нет, — отвечали те вразнобой.
— Погоняйте резвее, плететесь…
* * *
Канцлер Сапега отмечал день рождение не в родном Вильно, а в своем краковском замке.
Со всей Речи Посполитой съехались именитые гости к королевскому любимцу. Вельможные паны заполнили просторные залы, разбрелись по замку, судачили, сплетничали.
Сигизмунд задерживался. В эти часы, когда его ждали у канцлера, король рассматривал привезенный ему накануне портрет эрцгерцогини австрийской. Вдовствующий король Сигизмунд подыскивал себе жену…
А в замке канцлера гости все прибывали. Вот явился воевода Мнишек с дочерью. На Марине платье парчовое, русскими соболями отделанное, на шее жемчужное ожерелье.
Воевода надменно поглядел на панов, взял Адама Вишневецкого под руку, пошел по залу.
Спесив пан воевода! Чать, с самим московским царем роднится!
Папский нунций Рангони остановил Марину:
— О чем пишет царь Димитрий, дочь моя?