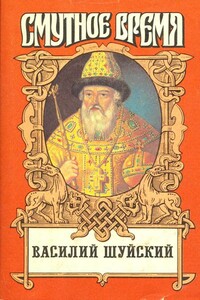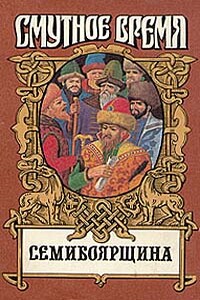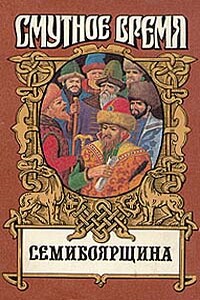Боже, сколько ждал он этого часа! Там, в монастыре, снилась ему Москва. Виделась своими улицами и переулками, домами и хоромами, торгом шумным, мощенной камнем площадью, дивными церквами и зубчатой кремлевской стеной. Мысленно хаживал Филарет берегами Неглинки и Москвы-реки, видел, как на Яузе удят мальчишки рыбу. И слышалась ему Москва людским гомоном, перестуком кузнечных молотов и звоном колоколов…
Время обеденное, и купцы закрыли свои лавки. Прошел по улице стрелец, нес связку беличьих шкурок. Видать, занимается этот стрелец скорняжным промыслом.
К Кремлю ближе стало людней. Послушник-ездовой повернулся.
— Править куда?
Филарет очнулся.
— А? На патриарший двор, сыне. К патриарху вези.
В узком переулке два ляха в цветных одеждах, обнажив сабли, гонялись за поросенком. У панов шапки набекрень, бритые щеки раскраснелись. Баба из калитки выскочила, орет, бранит ляхов, а те хохочут, саблями размахивают. Визжит поросенок, мечется. Наконец шляхтич изловчился, ткнул его концом сабли.
Ухватили паны поросенка за ноги, поволокли, не обращая внимания на бабу.
Обогнал Филарета мужик, выругался:
— Озорует литва, обижает!
* * *
Год обещал быть урожайным. Налилась щедро рожь, и по дворам на славу выдались лук и капуста. Радовались мужики — пахари и огородники, забыв недавние походы, копались на своих грядках стрельцы, веселели ремесленные слободы.
Ушли из-под Москвы последние казаки. Получив обещанные награды и набив кошели, убрались в Польшу и Литву многие шляхтичи. Лишь пан Дворжицкий со своими ротами оставался в Москве.
О Шуйских судачить перестали, да и говорить-то о чем, не казнь, а так просто, потеха. Петра Басманова Отрепьев совсем к себе приблизил, во всем доверился.
Инока Филарета патриарх Игнатий возвел в митрополиты ростовские. По церквам и соборам молебны служили о здравии царевича Димитрия и матери его инокини Марфы, в миру царицы Марии Нагой.
А в лесах и на дорогах стрельцы, посланные воеводами из разных городов, ватажных холопов ловили, чинили над ними скорый суд и расправу: почто на бояр и дворян руку поднимаете, от дел своих холопских бегаете…
Тем и жила русская земля тысяча шестьсот пятого года.
* * *
Бояре к царским чудачествам непривычны. Бывает, заявятся утром в Трапезную палату, ждут-пождут государева выхода, а его еще с вечера след простыл. Отрепьев теми часами в деревянном загородном дворце гульбище устраивал с вином и музыкой, где Бахус царствовал над разумом. В полночь девок донага раздевали, забавлялись.
Челядь прислуживала государю верная, на язык мертвая.
На игрищах одни и те же: царь с Басмановым да паны, гетман Дворжицкий и писчий человек при государе Ян Бучинский. И только девки, что ни гульбище, одна-две новые. Тех, какие на потеху негодные и слезы лили, шляхтичи в лес увозили, а там куда девали, лишь им известно.
К утру гости валились, где кого сон сморил, а Отрепьев уходил на вторую половину дворца, вот уже месяц там жила Ксения Годунова.
Стали на Москве поговаривать: девицы красивые исчезают, пойдут к вечерне, а домой не ворочаются.
Винили во всем литву и ляхов.
* * *
В голицынских деревянных хоромах зарешеченные оконца прикрыты ставнями и в просторной палате полумрак.
Вдоль стен лавки резные, сундуки, кованные полосовым железом. У дубового стола стулья с высокими спинками. Сосновый пол в палате выскоблен с песком до желтизны. Прохладно.
На полках утварь выставлена: блюда и чаши серебряные, отделаны чернью. По правую руку от двери висели боярские кафтаны, тут же на скамье высокие собольи шапки красовались.
Князья за столом сидят. Голицын с Черкасским друг против друга, а в торце на почетном месте — митрополит Филарет.
На Филарете не грубая иноческая одежда, а шелковая, черная. На шее крест тяжелый, золотой. Высок, красив Филарет.
— В кои лета свиделись, князья дорогие, самозваному царю, нами порожденному, спасибо. — И засмеялся.
Голицын склонился над столом. Из-под насупленных бровей разглядывает Филарета. Черкасский молчит.
— Не запамятовал, отче, как приезжал я к тебе в обитель? Сомневался, так ли поступаем? Может, Гришка Отрепьев и не надобен был? Теперь ходи под расстригой.