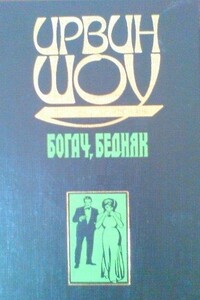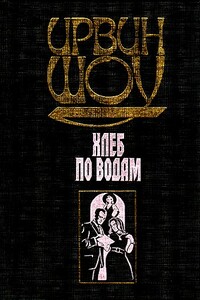Насколько Петтерсон понимал, они были без ума друг от друга, хотя Люси была скромна и не привлекала внимания в обществе, и в этом напоминала вежливого ребенка, которому вбили в голову, что выделяться неприлично. Что касается Оливера, он всегда становился ироничным, раскованным и одновременно сдержанным, что особенно усиливалось его пилотскими привычками, и только потому что Петтерсон хорошо знал своего друга, он мог разглядеть в его поведении с Люси неугасающую нежность и восторг. В общем, оба они были высокими, сияющими и еще неискушенными молодыми людьми, а впрочем, оглядываясь назад, выясняется, что не такими уж они были сияющими и еще неискушенными молодыми людьми, когда стояли с серьезным видом у алтаря. Это была в Нью-Йорке, потому что Оливер заявил, что не собирается портить свою семейную жизнь, начиная ее в Хартфорде. Сцена у алтаря наводила Петтерсона на мысль, что из всех браков, заключенных в этой стране в тот июньский день, этот, без сомнения, был одним из самых справедливых.
На свадебном приеме Петтерсон, немного опьянев от шампанского, отложенного стариком Крауном еще во время сухого закона, сказал, недоброжелательным взглядом охватив толпу: «Чертовски необычная свадьба. Среди гостей нет ни одного, кто бы спал с невестой». Те, кто услышал его, рассмеялись, что укрепило его репутацию острослова, и одновременно человека, которому опасно слишком много доверять.
Возвращаясь домой в Хартфорд поездом вместе со своей женой Катрин, Петтерсон сидел, уронив голову на оконное стекло, с чувством тяжести в голове и осознанием ошибочности собственного брака, которому в то время было уже тринадцать месяцев. Но уже ничего нельзя было сделать и Катрин не была виновата, да и сам Петтерсон знал, что не собирается ничего предпринимать, просто постарается доставлять Катрин как можно меньше страданий. Сидя вот так, пряча под закрытыми веками остатки паров свадебного шампанского, он знал, что жизнь его будет долгой, спокойной, глубоко спрятанной от посторонних взглядов ошибкой. В то время он был циником и пессимистом, и считал, что совершенно нормально, обнаружив в возрасте двадцати семи лет ошибку, понимать, что с этим придется прожить всю оставшуюся жизнь.
Вернувшись из свадебного путешествия, Оливер и Люси Крауны некоторое время жили именно так, как планировали. У них была квартира на Мюрей Хилл с большой гостиной, которая довольно часто была полна самыми разнообразными представителями честолюбивой молодежи, стекавшейся в то время в Нью-Йорк. Каждое утро Оливер отправлялся на небольшой заводик под Джерси, иногда летал над лугами и солончаками в самолетах, которые он выпускал со своими партнерами. Люси пять раз в неделю ездила на подземке в лабораторию к своим водорослям на Морнингсайд Хайз, затем возвращалась домой, чтобы приготовить обед, организовать вечеринку, отправиться в театр, или, что случалось гораздо реже, поработать над своими исследованиями на ученую степень. Она больше не надевала тетушкиных нарядов, и тут выяснилось, что ее собственный вкус был довольно неопределенным, или же преднамеренно упрощенным, продиктованным каким-то подростковым понятием скромности, так что она никогда не выглядела как настоящая жительница Нью-Йорка.
Петтерсон приезжал в город как можно чаще. Когда удавалось, он приезжал без Катрин, и всякий раз превращал квартиру Краунов в свою штаб-квартиру, вписав в длинный список своих завистей к Оливеру его жилье и друзей. И Петтерсону в то время приходило в голову, что хотя Люси выглядела вполне счастливой, она производила впечатление скорее гостьи в собственной семейной жизни, чем полноправного участника. Это было отчасти следствием ее застенчивости, от которой ей еще не удавалось избавиться, отчасти с манерой Оливера всем управлять и доминировать, весело, учтиво, без всяких усилий, иногда даже ненамеренно, над любой компанией, в которой бы он ни оказался.
После одного из визитов Петтерсона в Нью-Йорк Катрин спросила его, счастлива ли Люси по его мнению. Он задумался и сказал наконец: «Да, полагаю, что счастлива. Или почти счастлива. Но она надеется стать счастливой потом…”