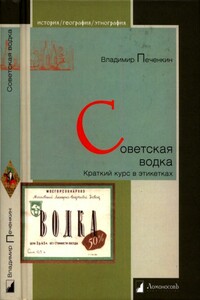Исходное положение, с которого приходилось начинать церкви эту работу, хорошо обозначено в летописной записи под 1068 годом по поводу половецкого нашествия. Последнее объяснено здесь как наказание Божие за «наши» грехи и сопровождается призывом по-настоящему «прилепиться Господе Бозе нашем», а не «словом… поганьскы живуще». Тут и вера в «усряцу», и в «зачихание», и «другие нравы», которыми «дьявол льстит», «всякыми лестьми пребавляя [отвращая] ны от бога: трубами, гусльми, русальями». Повсюду бросаются в глаза «игрища утолочена и людии множество на них, яко упихати начнут друг друга, позоры деюща от беса замысленаго дела». Эти игрища — основная форма общественной жизни; «а церкви стоят», и «егда же бывает год [время, положенное для] молитвы, мало их [людей] обращается к церкви».[253]
Собрание верующих в церкви противополагается этим языческим игрищам, в которых участвуют люди, что «жруть [приносят жертвы] бесом и болотом и кладязем, и иже поимаются без благословенья счетаются, и жены отметаются [сходятся и расходятся с женщиной], и свое жены пущают [бросают] и прилепляются инем, иже не принимают святых тайн ни единою летом» (ни разу в году); это люди, не взятые в узду церковного брака и регулярного покаяния. За спиной этой языческой массы стояли волхвы, указания на беспощадное истребление которых княжескими агентами имеются в наших летописях именно для этого времени.
Держалось же влияние волхвов, по мнению летописца, преимущественно на женщине. Очевидно, что именно за женщину и надлежало взяться церкви, чтобы попытаться подорвать язычество, так сказать, изнутри и в самом корне. Семья, где женщина оказывалась в будничных перипетиях жизни один на один с мужчиной, должна была стать предметом специального внимания церковников — в поисках действительного торжества христианской церкви в ее борьбе за существование и господство.
Прошло сто лет этой борьбы, уточнялись и утончались ее практические приемы, а в «Поучении» Ильи (1166 год) все же находим свидетельство, что не все еще достигнуто: «Пакы же возборонивайте женам, оть [чтобы] не ходят к волхвом, в том бо много зла бывает, в том бо и душегубства бывают разнолична и иного зла много…»[254] Однако жены эти, по-видимому, уже в лоне церкви и в рамках признанного церковью брака, и ситуация имеется в виду та же, что в современном Илье Кириковом «Вопрошании»: женщины, если не их любят мужья, «омывают тело свое водою и ту воду дают своим мужем». За это домашнее волхвование епископ Нифонт смело назначил епитимью — от шести недель до года не давать причастия; в том же случае, когда женщины несут своих заболевших детей не к попу, «на молитву», а к волхвам, он же назначал от трех до шести недель. Языческий бес был тут уловлен в сети церковной дисциплины, а женщина мыслилась уже как человек, с годами подлежащий большей ответственности за содеянное: в случае с детьми епитимья понижалась до трех недель для «молодых», то есть недостаточно церковно-тренированных.[255]
Значит, церковная из году в год прогрессирующая тренировка предполагалась уже налаженной, а стена бесовских массовых игрищ — пробитой для индивидуальных поповских воздействий.
Указанный здесь способ воздействия — епитимья — свидетельствует, что во второй половине XII века церковник свободно оперировал обоими «таинствами», входившими в состав дисциплинарной триады: покаяние — епитимья — причащение. Но дело это было настолько новое и деликатное, что тактика рекомендовалась церковнику свыше в отношении «духовных детей» весьма осторожная. Например, на вопрос, что можно и чего нельзя есть, Нифонт ответил, что можно «все ести» «и в рыбах, и в мясех», если сам потребитель не усомнится и не погнушается: «если сам себя укоряет, или гнушается — то есть на нем грех».[256] Или, например, случай сокрытия греха на исповеди. Тому же Нифонту задан был вопрос: «Аже блудяче причащалися, не поведали отцем [скрыв от попа на исповеди], а они [попы], ведучи даяли» (знали, да причастили)? На ком тут грех? «Нету, рече, в том греха детем, но отцем» (то есть попам).