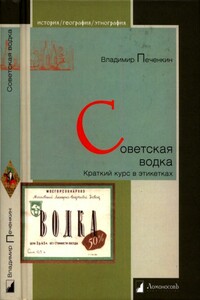Между тем этот «владыка Феодор» сам до этого боролся с ведомою (для летописца) ересью суздальского епископа Леона, «не по правде» «перехватившего» епископью у живого своего предшественника Нестора и учившего «не ести мяс» по средам и пятницам, даже если на эти обычно постные дни падали «господские» праздники вроде Рождества и Крещения: «в тяже великой», происходившей в широком собрании во главе с Андреем Боголюбским, «упре его», то есть выиграл спор с Леоном, именно «владыка Феодор».[206] В приведенном летописном сообщении об обстоятельствах гибели Федора несомненно отразилась и эта борьба из-за постов. Федор выведен здесь не только «злодеем», но и «еритиком», а описанную, тоже довольно злодейскую расправу учинил над ним тот самый митрополит — грек Константин, который за год до того сотворил «неправду», «запретив» печерского игумена Поликарпа за то, что тот ел в те же праздничные среды и пятницы молоко и масло. В случае же с Поликарпом «помогал» митрополиту и другой грек, черниговский епископ Антоний. Этого Антония, который «многажды браняшет ести мяс в господскые праздники» и своему черниговскому князю Святославу, этот же князь и «изверже из епископьи» именно за это.[207]
Как мог запутать отношения церковный спор, видно из того, что князь Святослав Всеволодович обязан был престолом именно Антонию.[208] Черниговский стол освободился в 1164 году за смертью очередного князя в отсутствие его сына Олега. Вдова, мать Олега, с боярами и Антонием решила скрыть смерть князя до приезда Олега, чтобы не дать времени опередить его Святославу Всеволодовичу, бывшему в это время в Новгороде, — и на том все целовали крест. При этом Антоний звал всех к кресту, как сам объяснил, чтобы никто не заподозрил его в тайных сношениях со Всеволодовичем, а прочие крестоцеловальники чтобы не уподобились Иуде-предателю. На деле же Антоний-то именно и «исписа грамоту» Всеволодовичу, призывая его захватить голыми руками Чернигов, пока не приехал Олег: «Дружина ти по городам далече, а княгиня седит в изуменьи [растерянная] с детми, а товара [чем поживиться] множество у нея, а поеди вборзе, Олег ти еще не въехал, а по своей воли возмеши с ним ряд» (то есть навяжешь ему выгодный для тебя договор). План Антония удался не вполне, но главное было достигнуто: Святослав успел занять некоторые стратегические пункты, хотя и опоздал собственно в Чернигов. Олег же поспел в Чернигов, но не успел сосредоточить там надобных сил, и переговоры между соперниками кончились компромиссом: Черниговом для Святослава и Новгородом для Олега.
А в Суздале в то же время князь Андрей предал в руки митрополита своего Федора, владыку, который не только отстоял, к удовольствию Андрея, господские праздники, но, как думают, прямо работал на своего князя, взяв поставление в Ростов не в Киеве, а в Константинополе и устроив, таким образом, на севере «автокефальную» кафедру, хоть это и не была еще митрополия, о которой помышлял Андрей.[209] В изложении летописца крушение, постигшее Федорца, было «чудом новым» от Бога и Богородицы: они-то и «изгнали» этого «злаго, и пронырливаго, и гордаго лестца, лжаго владыку» за то, что тот не захотел «благословения» митрополичьего и не послушался князя Андрея, повелевшего ему теперь идти «ставиться к митрополиту к Кыеву». Будто бы Андрей делал это, «добро о нем мыслящю и добра ему хотящю», а тот прибег к своего рода локауту: повесил на всех церквах во Владимире замок — и «не бысть ни звоненья, ни пенья по всему граду и в сборней церкви» (что и было «хулой на богородицу», которой посвящен был собор).[210] На этом Федор и сломал себе шею. Он выскочил из упряжки, в которой до того шел дружно с князем, не сумев вовремя остановиться в тот момент, когда князь решил прекратить добиваться церковной самостоятельности за безнадежностью этого.
Портрет Федора в летописи — продукт ожесточенной и сложной внутрицерковиой борьбы (да еще на международной подкладке). В ее атмосфере отпали литературные условности церковно-политического «приличия», и, может быть, это вовсе не злобная карикатура, а самое реалистическое изображение древнерусского строителя жизни, в ее крупных кусках, из всех изображений, какие дошли до нас из-под скованного пера русских летописателей XI–XII веков. Перед нами крутой и властный (в стиле того же Андрея Боголюбского, тоже кончившего плохо в конце концов) организатор церковного центра с претензией на самостоятельность и с готовностью на борьбу, что называется, «до конца». Связанный цензурой Е. Е. Голубинский в свое время приходил в изумление перед беспощадной жестокостью обеих сторон в этой борьбе и заключал, что то «время вовсе не должно быть представляемо таким мягким, как это наклонны делать иные».