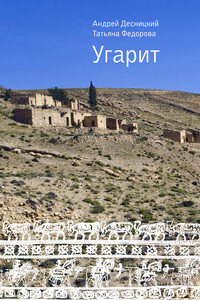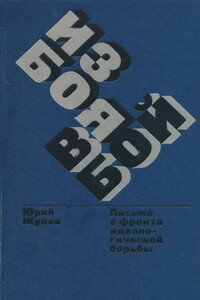Создать ли ее биографию? Такие уже есть, прежде всего автобиографическая книга «Сама жизнь», в которой, как в самой жизни, все перепутано, нет ни точных адресов, ни выверенных дат. Это как-то ни к чему, ведь главное — не в датах.
Смысл этих дат, кстати, можно разгадывать, как шараду: она отошла первого апреля 2009 года, в «день дураков» и одновременно в двухсотлетний юбилей Н. В. Гоголя, и одновременно — в тот вечер, когда совершается в наших храмах самая трудная и покаянная великопостная служба, «Мариино стояние». А отпевали ее в годовщину основания общества П. Г. Вудхауза, одновременно — на праздник похвалы Пресвятой Богородице. Вот как можно это все соединить? А у нее как-то получилось. У нее вообще получалось сочетать в своей жизни много вещей, которые кажутся нам несовместимыми.
Мы же все — заядлые спорщики. Сначала определяемся: ты за тех, а я за этих (а еще точнее, ты против этих, а я против тех), а потом начинаем бой, обычно бессмысленный и беспощадный, за свое понимание истины. «Как желает мирской человек? К другому — истина, а ко мне — милость, притом побольше. А наоборот?» — говорила об этом она.
А главное, она так жила, «наоборот», и поэтому у нее что-то действительно получилось. Вот о чем я, пожалуй, напишу: об этом умении сочетать внешне несочетаемое, словно бы балансируя на проволоке. «Царский средний путь», кто-нибудь может сказать, но для Натальи Леонидовны это слишком громко, она сама рассуждала так: «Вместе со сведеньем „есть Бог“ я получила странную систему ценностей, где суровы — к себе, милостивы — к другим, „нежного слабей жестокий“, и тому подобное. Здесь речь идет не о том, хорошо ли я этому следовала — конечно плохо; но я знала, что так говорит Бог».
Ее родина — Петербург и Москва, две извечные соперницы-столицы. Родилась, выросла, училась в Петербурге, но переехала в Москву, там прожила основную часть жизни, и уже ушедшее поколение богемы отлично помнило московскую красавицу и умницу Наташу. Но еще ее земная родина — это Литва, ее «град Китеж», куда она буквально бежала от богемной столичной суеты и от официальной мерзости развитого социализма. «Картинкой к честертоновской книге» называла она свою самую антисоветскую республику СССР. Она вышла замуж за литовца-католика, и не только по форме, но и по сути «набралась католических привычек», как сама это определяла.
Тем не менее жизнь в католицизме, напряженная работа по переводу трудов католика Г. К. Честертона стали своего рода мостиком, по которому состоялось ее возвращение к православной вере, еще в детстве привитой ей бабушкой и нянечкой, женщиной из простонародья. Она была неизменной прихожанкой нашего храма Успения в Газетном переулке практически с самого момента его восстановления. Я не знаю и не хочу знать, как оформлялся официально этот переход, я даже не знаю, был ли вообще какой-то формальный переход в католицизм и обратно: она просто вернулась домой, к себе, но не утратила ничего из того, чему научилась и что приобрела в иных краях.
Когда рассуждают о «просто христианстве», как называл это Честертон, то слишком часто подразумевают принципиальную неразборчивость и всеядность, но в ее случае это было не так: это был поиск самой-самой сути, которую можно найти в разных традициях и у разных людей. «Со всеми считайся, а туфельки ставь ровно» — этот совет некогда был дан дочери Натальи Леонидовны перед конфирмацией о. Станиславом Добровольским, и выражение это стало своего рода девизом на щите. Ну да, очень много народу расскажет нам о тонкостях догматики, аскетики, канонического права — а вот это маленькая такая добавка, но очень важная, без нее из всех этих тонкостей слишком легко получаются толстые дубинки.
Итак, из Литвы она вернулась в Москву. На столетний юбилей Честертона собрались «шесть взрослых людей, девочка и кот, чтобы отметить 100 лет со дня рождения Честертона. Мы ели ветчину и сыр, пили пиво и создавали честертоновское общество». Шестеро взрослых — это С. Аверинцев, братья В. и Л. Муравьевы, Ю. Шрейдер, А. Янулайтис и сама Наталья Леонидовна (девочкой была ее дочь Мария). В тот же самый день честертоновское общество было основано и в Англии, но тогда этого никто не знал. Были провозглашены главные принципы общества — «христианство и свобода», а бессменным его председателем назначили кота со звучным именем Инносент Коттон Грей, чтобы избежать натужной серьезности, надо полагать. С котами у Натальи Леонидовны вообще всегда было полное взаимопонимание, но речь сейчас не об этом. Что может сделать некое неофициальное общество в глухую советскую пору? Какое там христианство, какая такая свобода? Не листовки же расклеивать, не на баррикады идти…