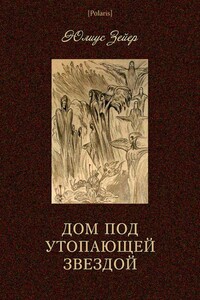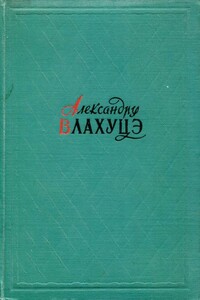Свидетелями будут ясные звезды!
И откуда-то из глубины, где, наверное, было темно и сыро, с дрожью в голосе, как из пустой бочки, послышалось:
— Клянемся! Клянемся!
То была клятва, донесшаяся из мрачного и сырого Павиака…
День свободы вторгся в дома и вызвал на улицу их обитателей.
— Идемте приветствовать День свободы!
И покинули дома женщины и старики, матери взяли на руки грудных детей, сестры вели за руку младших братьев — все шли «полюбоваться» свободой.
Варшава была ярко освещена и чувствовала себя свободной. То тут, то там слышались песни, то тут, то там штатские целовались с солдатами и стражниками… А потоки людей текли и текли и заняли всю огромную Театральную площадь перед ратушей.
Площадь была полна народу. Черную массу людей освещали разноцветные лампочки, прикрепленные к древкам красных флагов, а также украшавшие царскую монограмму, висевшую на фронтоне ратуши. С театрального балкона неслись звуки «Красного знамени». Массы подхватывали мотив революционной песни, и эхо отдавалось вдалеке. То тут, то там раздавались голоса агитаторов. Жители города, оставившие свои дома впервые после объявления военного положения, с удивлением и любопытством прислушивались к словам ораторов. Робко прикасались они к красным флажкам, еще вчера грозившим им репрессиями и даже смертью… Все было так неожиданно и непривычно, люди сблизились, почувствовали себя товарищами, друзьями… Произошло событие, касающееся всех.
На балконе театра показался полицмейстер, народ его приветствовал… Он раскланивался… Ораторы потребовали от него, чтобы он освободил политических, переполнивших за время военного положения все тюрьмы, остроги, замки и казармы. Он обещал освободить тех, что сидят в ратуше. Народ стал в два ряда, высокие тяжелые ворота ратуши отворились, и на улице показались первые арестованные. Вышла высокая, сухощавая женщина с ребенком на руках, закутанная в рваный платок. Женщину вели меж двух рядов людей под балдахином, сделанным из красного стяга. Музыка на балконе театра играла бравурный марш, а тысячная толпа оглашала воздух криками «ура!». Так было освобождено из здания ратуши человек двадцать — тридцать.
И снова ворота ратуши были заперты на железные засовы.
Но народ не уходил. Снова вышел на балкон полицмейстер. Грудь увешана орденами и медалями. Раскланялся. А супруга полицмейстера из окна посылала народу воздушные поцелуи…
Народ приветствовал и ее…
Никто не уходил с площади. Еще не успела скиснуть улыбка на лице обывателя, вызванная появлением и поклонами господина полицмейстера, как неожиданно, неизвестно откуда, среди толпы показались казаки на лошадях. Народ приветствовал и их… Какая-то женщина протянула казаку руку:
— Да здравствует свобода!
Но вдруг, показалось, напирают… Как будто бы бегут…
Что случилось? Кто-то истошно кричит… Женщины голосят… Дети плачут…
Бегут… Продираются сквозь толпу, валят людей… Сверкнула шашка, послышался крик и тут же оборвался… Человек упал на шедшего впереди… Один прячется за спину впереди идущего, тыкается головой в спину, матери заслоняют собою детей. Казаки на конях ринулись на толпу, конские подковы обрушились на тела женщин, на груди, топчут упавших… Шашки пошли гулять по головам, по лицам, затылкам… Кое-кто пытался защитить голову руками, но шашки отрубали пальцы, кое-кто, потеряв рассудок, сам кидался под копыта лошадей, спасаясь от шашки, сверкавшей на фоне царской монограммы. Большая часть толпы пустилась бежать к скверу, огороженному чугунной решеткой. Но, прижатые к ограде, остались на остроконечных кольях человеческие тела и тела детей, обагривших кровью холодный чугун…
Театральная площадь опустела. Лишь издалека доносились плач и причитания матери, оставившей здесь своих детей… На широкой площади в беспорядке валялись тела в лужах крови, отрубленные шашками части человеческих тел, дамские шляпки, женские волосы…
Мрачными и чужими выглядели дома на этой площади. Большое здание театра глядело многочисленными окнами на площадь, напоминавшую площадь римского цирка, где только что выпущенные из клеток тигры терзали безоружные и беспомощные тела людей…