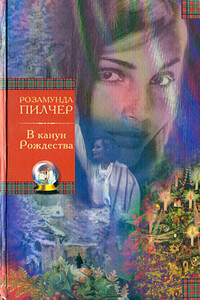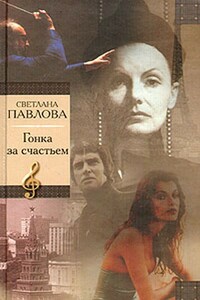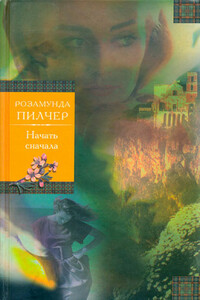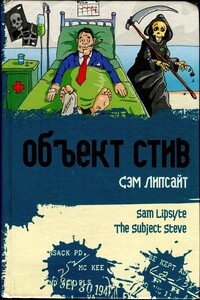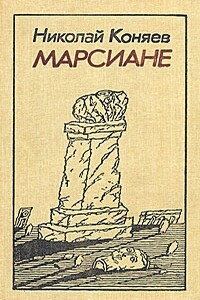— Как у вас хорошо! — Сознание того, что она знает больше, чем подруга, буквально распирало Белинду. Уж ей-то известно, что именно взвалил на себя бедняга Саймон.
Они прошли по тропинке позади высокой тисовой изгороди. Тропинка привела их к калитке в заборе, выйдя из которой, они попали на огромное ячменное поле. Издавна его называли баньяновым.[31] Легенды гласили, что в XVII веке здесь не было отбою от паломников. Правда это или вымысел, неизвестно, но какой-нибудь измученный жизнью жестянщик, уснувший под бедфордширским плетнем, замечтавшись о волшебной горе, смотрелся бы здесь вполне уместно. Глинистая земля казалась огромнейшей лоханкой крепкого какао. В серой вышине пели жаворонки. Стоя на краю поля, можно было увидеть очертания города, трубы, песчаный карьер, уставленный экскаваторами, вокруг которых сновали рабочие. Именно здесь множилось состояние Саймона. Слева уходила в бесконечность Англия — равнинный пейзаж ломали длинные ряды печных труб.
— Надо было продать компанию, когда началось слияние. — Ричелдис села на своего любимого конька. О Саймоне она могла говорить часами. — Но, когда ему предложили остаться управляющим, он, конечно, не мог устоять. К тому же ему не хотелось бросать отцовское дело. Но он так загружен, так загружен… Он чуть ли не каждый день мотается в Сити. А последние две недели сам разбирает почту. Вернувшись из Парижа, он уволил секретаршу, а ведь не все документы можно отдавать в машбюро.
— Зачем же он тогда ее уволил?
— Так получилось. Рут Джолли оказалась не лучшим его приобретением. Представляешь, она смылась в отпуск как раз тогда, когда Саймон уехал в Париж, а когда он вернулся, ни с того ни с сего положила ему на стол заявление об уходе. Впрочем, он не слишком расстроился. Даже сказал, что лучшей возможности от нее избавиться трудно было представить — секретарша она была никакая. Как ни позвонишь Саймону на работу, каждый раз нарываешься на автоответчик. Ну и за что, спрашивается, ей платить?
— Но что-то же она все-таки делала.
— Как я понимаю, в основном красоту наводила. И как это вы оказались в Париже в одно время? Живительное совпадение. Жаль, что ты не пришла тогда с ними пообедать. Монику в больших дозах воспринимать тяжеловато.
— Да ладно тебе. — Почему-то их разговоры всегда рано или поздно сворачивали на одну и ту же тему. — Она мила и вполне счастлива. Похоже, семейные радости ее совсем не привлекают.
— Все зависит от того, что считать счастьем, — возразила Ричелдис. — Что у нее есть-то? Она, когда сюда приезжает, не отходит от детей.
— Так это от чужих. Ты себе можешь представить ее в роли матери? Да ее квартира для этого просто не предусмотрена.
— Странная она… Неприкаянная какая-то… Но, Бел, не может же она прожить так всю жизнь.
— Может.
— Душа у меня из-за нее не на месте. Ей-то не скажешь, конечно, но, по-моему, это патология. Между прочим, ты не заметила, как у нее стал портиться характер? С ней очень трудно стало разговаривать. Она, что, совсем ни с кем не общается? А чем же она занимается целыми днями?
— Русским.
— Шутишь? Неужели у нее кто-то есть?
— Русским языком занимается.
— Уф… А я-то было размечталась, что она себе какого-нибудь красавца славянина откопала. А что? С нее станется. Она, часом, не в разведке работает?
— Какой славянин, какая разведка! Она ж у нас скромница. Ей бы в монашки податься, а ты говоришь «шпионка».
— Бел, ты же не хочешь сказать, что она ни разу…
Предполагаемая девственность Моники была запретной темой, которая, тем не менее, то и дело всплывала в их разговорах. Они, как им казалось, могли понять любые отклонения, но невинность казалась им чем-то неприличным. Особенно в их возрасте.
— Откуда я знаю… Из нее слова лишнего не вытянешь… А со стороны смотришь — вроде такая умница, так во всем разбирается… У вас с ней, кстати, много общего, Рич… А я так, сбоку припека.
— Жалко ее, такая красота пропадает.
— Иногда ты меня просто поражаешь. Ну с чего ты взяла, что пропадает. В конце концов, можно прекрасно прожить и без секса.
— Ты с ума сошла! — Ричелдис расхохоталась. — Как же без этого? Зачем же морить себя голодом?