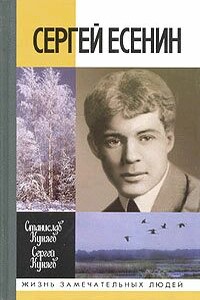Ничто, ничто… едина разве совесть.
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося,
Тогда — беда!
Годуновский монолог заканчивается знаменитыми словами: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!». Попробуем заменить в монологах Годунова «совесть» на «нравственность» — и почувствуем бесконечную разницу между этими вроде бы родственными понятиями.
«Угрызения совести», «ни стыда ни совести», «проснулась совесть», «поступать по совести», «совестно как-то» — ни в одном из этих примеров невозможно поменять «совесть» на «нравственность».
Законы совести не пишутся отдельно для Пушкина и для Арины Родионовны, для великого Моцарта и скромного трактирного скрипача, для Бориса Годунова и московского юродивого. Поэзия выше нравственности? Мысль спорная. Однако «выше совести» поэзия быть не может. Нравственность может быть пособницей ханжества, или лицемерия, или резонёрства. Совесть же, как благородный металл, не вступает ни в какие соединения с этими «кислотами».
Весьма своеобразно, но убедительно понимал нравственность Василий Васильевич Розанов:
«Я не враждебен нравственности <…> «Правила поведения» не имеют химического сродства с моей душою; и тут ничего нельзя сделать <…> Люди «с правилами поведения» всегда были мне противны, как деланные, как неумные <…> Но разве не в этом заключается мой восторг, что когда увидишь великолепного «нравственного» человека, которому тоже его «нравственность» не приходит на ум, а он таков от Бога».
Нет никаких сомнений в том, что в данном случае Розанов говорит о совести, и его взгляд близок взгляду другого персонажа Серебряного века о том, что «книга есть кубический кусок горячей дымящейся совести — и больше ничего» (Б. Пастернак, 1922 год)
Приблизительно в то же время (1918 год) Иван Бунин, осуждавший бессовестность и безбожность Серебряного века, напишет стихотворенье-молитву о России:
И цветы, и шмели, и трава, и колосья
и лазурь, и полуденный зной.
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я всё — вспомню только вот эти
полевые пути меж колосьев и трав —
и от сладостных слёз не успею ответить,
к милосердным коленям припав.
Вот такими молитвами-стихами Иван Бунин спасал свою душу от соблазнов Серебряного века.
* * *
Но дело даже не в том, что в своих статьях, письмах, заметках Пушкин последекабрьского периода выступает как защитник или даже как поборник нравственности. Это можно объяснить естественным после декабрьских потрясений 1825 года изменением его взглядов на благотворную роль государства в смягчении общественных нравов, на его усилившийся скептицизм по отношению к революциям и бунтам, на его постепенное, но прочное вхождение в религиозно-духовный мир России. Однако, может быть, самым надёжным свидетельством пушкинского преображения является его творчество. Всё чаще и чаще в его поэзии, прозе, драматургии появляются герои, которые побеждают, овладевают любовью читателей, вознаграждаются за своё смирение, доброту, за верность чести и долгу, за то, что живут по совести. Это отец Гринёва и сам Гринёв, это вся семья Мироновых — сам комендант Белогорской крепости, его жена Василиса Егоровна, их дочь Маша. Даже Савельич — верный крестьянский слуга молодого барина — своей преданностью весьма взбалмошному барчуку симпатичен нам, как и трогательный в своём простодушии житель села Горюхина Иван Петрович Белкин.
Но как нам отвратителен коварный предатель Швабрин, человек без чести и без совести! Восхищаясь широтой души Пугачёва, мы одновременно ужасаемся его жестокости, его бесчеловечной способности проливать кровь людскую, как водицу… В конце концов, когда перед казнью он возвышается до покаяния и просит у православного народа прощения за своё «окаянство», мы скорбим, но понимаем, что так и должно было случиться. Много невинной крови пролил этот «сверхчеловек» из народа. Терпят жизненное поражение люди гордыни и власти — Годунов с Самозванцем, авантюристка Марина Мнишек, и в этом противостоянии добра и зла наши чувства обращены к смиренным евангельским людям русской истории — к летописцу Пимену, к юродивому Николке.