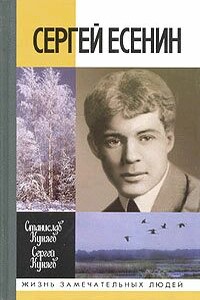Духовное созревание Пушкина проходило с невероятной быстротой. В нём, казалось, одновременно жили, спорили друг с другом и искали взаимопонимания две ипостаси: чистого художника, для которого «поэзия выше нравственности», и одновременно духовного пастыря общества. После рокового 14 декабря 1825 года Пушкин словно бы перерождается, осознав свою великую ответственность за каждый поступок, за каждую мысль и перед Богом, и перед Россией. Но основания к этому перерождению существовали и раньше. Почти одновременно с утверждением о том, что избранные («Байрон») могут быть «мерзки» и «подлы» — «но по-другому», нежели «люди толпы», поэт уже в поэме «Цыганы» (1824) пришёл к осуждению гордыни, когда герой поэмы Алеко — человек из байронической породы избранных, — вынужден признать высшую правоту старика-цыгана, — человека «толпы», сына «простонародья»:
Оставь нас, гордый человек,
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним,
Ты для себя лишь хочешь воли.
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел, — оставь же нас…
В словах старика-цыгана, у которого «душа-христианка», живёт евангельская истина о том, что перед Богом все равны: и гении, и простолюдины, и что кроме общественной нравственности миром правит другая, высшая сила, именуемая совестью.
Тайная связь нравственности и совести, совести и красоты, искусства и совести всю жизнь волновала Пушкина.
Вспомним, как простодушный Моцарт спрашивает своего коварного друга:
«Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?» — И сам с негодованием отвергает это предположение:
Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство
Две вещи несовместные. Не правда ль?
(выделено мной. — Ст. К.)
В финале трагедии Сальери, ошеломлённый внезапным пониманием того, что он не гений, поскольку замыслил убийство, в своём монологе растерянно повторяет Моцарта:
Ты заснёшь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные.
Но не выдерживает и срывается:
Неправда!
А Бонаротти? или это сказка
Тупой бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?
«Не правда ль?» — простодушно спрашивает Моцарт своего коварного друга, на что последний, уже попотчевавший друга смертельным ядом, то ли шепчет, то ли кричит самому себе: «Неправда», — и цепляется за легенду, судорожно вспоминая, что Микеланджело Бонаротти якобы умертвил натурщика, чтобы естественнее изобразить умирающего Христа. Трагедия заканчивается вопросительным знаком, но поставлен он не Пушкиным, а Сальери.
На разных отрезках своей недолгой жизни Пушкин по-разному понимал соотношение красоты и совести, добра и зла. И всё-таки он, изначально осознавая различия между нравственностью и совестью, понимал, что «нравственность» есть нечто преходящее, развивающееся, отражающее условности общественной жизни, нечто меняющееся в связи с изменениями жизни человечества. «О, времена! О, нравы!» Эта латинская поговорка навсегда соединила нравственные начала с временами. То, что считалось обычным и естественным в языческие времена (рабство, бои гладиаторов, любовные развлечения Клеопатры, отношения между людьми в эпоху Декамерона и Бенвенуто Челлини, лозунги революции и гражданской войны вроде того, что «нравственно всё, что способствует победе пролетариата»), то неизбежно превращалось с течением времени в отработанный шлак истории. Помещик Троекуров и его крепостной крестьянин жили по разным нравственным установлениям. Совесть же, как Божественный дар всему человечеству, всем «временам и народам» и каждому человеку лично, является неиссякаемым источником высшего понимания жизни и вечной нашей надеждой на спасение.
Борис Годунов в трагедии Пушкина как государь и как покровитель всех своих подданных ведёт себя безупречно, то есть нравственно.
Я думал свой народ
В довольствии и в славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать <…>
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы <…>
Я выстроил им новые жилища…
И всё равно народ почему-то не принимает щедроты и благодеяния царя, в глубине души осознающего свою драму нечистой совести:
Ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;