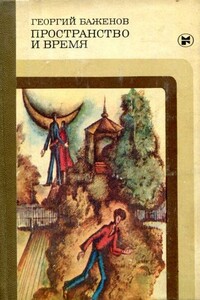Григорий стоял над Машей и долго, пристально рассматривал ее лицо. Когда она, причмокивая, шевелила губами, или вдруг вздыхала, или же удивленно — почему? — поднимала бровь, он вздрагивал, пугался. Разглядывая Машу, он понимал, что во многих его чувствах опять повинна ночь, и все-таки что-то особенное, неповторимое было в лице Маши, в бретельке ночной рубашки, слегка приоткрывавшей плечо…
«Надо уходить… Здесь нельзя…» — думал он, стоя рядом, но ни одна мышца не отвечала действием. Словно то, что он думал, — это одно, а то, что делал и сделает, — это другое. Но когда он думал, что пора идти, то действительно думал так, не лицемеря.
«Подойти сейчас, погладить ее… и уйти».
Но он не подходил, а, наоборот, пятился к окну, вовсе и не собираясь уходить. У окна, глядя в ночь, на луну, на силуэты кустов в саду, он долго стоял недвижно и слушал, как стучит в груди сердце.
«Пойду я… нехорошо…»
Но вместо этого вновь Григорий стоял рядом с Машей… Она что-то шептала во сне. «Кто я? Что мне нужно?..» — думал он. Он чувствовал, что уже не на лицо смотрит, а — упорно на плечо. Оно открыто теперь больше — нежное, наверное, мягкое… Вспоминая, какую видел сегодня Машу, он представил теперь всю ее, спящую под одеялом.
Он не чувствовал стыда, только необъяснимый страх. Она спала совсем близко, беззащитная… Словно и Маша что-то почувствовала — долго не было слышно ни вздоха, ни шепота ее сквозь сон. Проснулась ли она? Нет, нет, нет…
Иван спешил домой. В лесу он наскоро, но с любовью нарвал для Маши букетик земляники и по дороге, взглядывая на него, беспричинно радовался.
С этим букетиком, прежде чем заходить в дом, он, баловства ради, взобрался на завалинку и заглянул через стекло в комнату, где спала Маша. Тени сада падали на окно, и поначалу ничего в комнате не видел Иван, но, всмотревшись, увидел вдруг то, от чего тихо-тихо, будто смерть пришла, стало в его душе. Он вгляделся пристальней, до боли вдавившись в стекло лбом, и снова увидел то же: Маша спала не одна… Иван никак не мог разглядеть, кто был рядом. Что-то ему показалось знакомым, таким знакомым… и когда он начал вдруг сознавать, кто же это был, то ноги сделались у него ватными, мягкими — и поползли с завалинки. Он упал на землю, рядом стояло ведро — оно зазвенело, забрякало и покатилось по саду…
Но Иван тут же очнулся, поднялся и стремительно пошел в дом.
Когда он влетел в комнату, то остановился как вкопанный: Маша была одна. Спала она лицом к стене, отвернувшись от него.
Он подошел к ней, положил на грудь ладонь. Вся она, Маша, была напряжена, неестественна и слишком крепко спала.
Свадьбу играли на ноябрьские…
Полетел именно в этот день, в этот вечер, первый долгожданный снег. Парни с девчонками выскакивали из избы, подставляли снежинкам лица — снежинки таяли, по щекам текли холодные струйки. Смеялись, кричали песни. По всей Красной Горке до проходящих мимо поездов разлеталось беззаботное веселье.
Жених и невеста занимали свои законные места в центре стола, а вокруг них сидела родня, друзья, подруги, знакомые…
Народ, взбудораженный, завидущий, легкий на подъем, бесконечно кричал: «Горька! Горька-а!.. Го-орь-ка-а!..» А молодежь, на потеху, кричала свое: «Сладка! Сладка-а!.. Сла-адка-а!» Поначалу на них сердились, шикали, но потом перестали, тогда молодежь начала подхватывать — и снова общий властный гром требовал подсластить вино.
Потом просили тостов; говорил один, второй… просили произнести какой-нибудь особенный — и кто-нибудь произносил особенный.
Отец Славы, Григорий Никитушкин, уважаемый всеми человек, начальник паровозного депо, прослезившись, сказал:
— Гости дорогие! Пожелаем молодым счастья, любви, согласия! Спасибо Надежде Тимофеевне за прекрасную дочь! Выпьем за нее, за ее дочь! Выпьем, чтобы Слава отслужил побыстрее и возвращался к молодой жене!.. — Седые волосы Григория Ивановича рассыпались на две стороны. — Выпьем за полное их счастье!
— Мы-то выпьем! — закричали вокруг. — А и ты, Иваныч, и ты давай!
— Шут с вами! — Григорий Иванович поднял рюмку и, хотя врачами запрещено пить совершенно, выпил за молодое счастье.