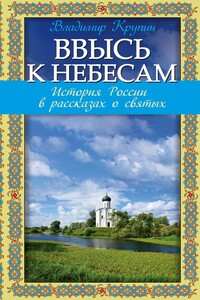– Саша сейчас выйдет.
– Евдокия Ивановна, – сказал я, не садясь, чтоб не
растерять решимости, – прошу у вас руки вашей дочери.
– А сердце уже ваше. – Она улыбнулась совсем как
Саша. – Все-таки присядьте. Я должна вам сказать, что Саша очень больна.
Очень. Я заметила у нее прилив сил, когда она познакомилась с вами. Она очень
скрытная, но я поняла. У нее... – Евдокия Ивановна запнулась, но
выговорила: – У нее врожденный порок сердца. У нас это фамильное. Но с Сашей
особый случай. – Евдокия Ивановна ставила чайник, заливая воду через
фильтр. – Саша была необычайно резва и долго не понимала, что нельзя
бегать, прыгать. На нашу беду, врач оказался новатором, лечил, как он выражался,
движением, разрешил спорт. Саша надорвалась окончательно. Ей ни в коей мере
нельзя иметь детей. Разве вы не захотите иметь детей?
– Светочку из продленки возьмем, – торопливо
сказал я.
– А у вас есть братья?
– Нет.
– Вы же не захотите, чтобы на вас пресеклась мужская
линия семьи. Вы молоды, ваша влюбленность пройдет. Уже и Саша, я с ней
говорила, пришла к такому же выводу.
– К какому? Жениться на другой? Но это же ужас, что вы
можете так говорить.
– Александр Васильевич, жизнь есть жизнь. Было бы куда
преступнее согласиться на замужество, а потом сказать о болезни, ведь так?
– О какой?
Саша вошла на кухню. Она была так прекрасна в
светло-зеленом, с кружавчиками у ворота халатике, безо всякой косметики,
волосы, прямые и гладкие, падали вдоль бледных щек. Евдокия Ивановна, сказав:
«Саша, угощай гостя», – вышла.
– Какой я гость, – сказал я. – Я муж твой. Я
просил твоей руки и получил согласие. Я ей понравился.
– Это ты умеешь.
Я стиснул ее.
– Я все знаю, я знаю про твое здоровье, это все ничего
не значит. Саш! Ну что ты лицо склоняешь и прячешь в кружева?
– Будем чай пить. Ой, какие красивые... – Это она
сказала о цветах. – Цена, наверное, заоблачная.
– Вот, – подметил я, – говорящая деталь: ты
говоришь о цене на цветы не как невеста, а уже как жена. Экономика должна быть
экономной. Мы же еще в детстве застали брежневские лозунги. Бережливость – не
скупость. – Я не давал ей вставить ни слова. – Сейчас ехал с
частником, он агитировал в партию «Вся власть – русским Советам». Ставит на
русскую идею. Главное – жена должна быть русская. Так что в этом смысле я член
этой партии. В одном, главном, не сошлись. Я говорю: для меня русская идея –
Православие, и другой не будет вовеки. Он: нет, рано, с Православием мы
погорячились. Надо брать власть, смирение нам может помешать.
– Саша... – Она коснулась моей руки. – Мама
рассказала не все, она не все знает. Я расскажу. Но не сейчас.
– Ну что у тебя все за секретики, ну не глупо ли? И
ехать не давала. Я уж чего только не навоображал. Думаю, вот у тебя был кто-то,
вот ты с ним поссорилась, я заполняю паузу... Прости, я опять заеду в
какую-нибудь ерундистику. Я приехал навсегда. Я полюбил твой город, в нем
живешь ты. Хотя тебя надо увезти отсюда.
– А мама, Аня?
– Им же тут просторнее будет.
– Без меня? Наоборот.
Вернулась Евдокия Ивановна.
– Александр Васильевич, подействуйте на Сашу, вас она
послушает, она совсем не ест ни молока, ни мяса. На что ты стала похожа...
– Пост же, мама. Великий же пост.
– Больным, – высказал я свое знание, – пост
можно не держать.
– В школе, – перевела разговор Саша, – я
говорила о «Шинели» Гоголя. Говорю: Акакий Акакиевич переписывал бумаги. Чтоб
понятнее, говорю: он делал копии. Один мальчишка: а, значит, Акакий Акакиевич
работал ксероксом. Но в этой «Шинели» одно ужасное место. Я детям не стала
говорить. Вот, когда выбирают имя, повивальная бабка читает святцы.
Святцы! – Саша замедлила на этом слове. – И вычитывает она имена
мучеников, преподобных, прославленных церковью, и вроде как вызывает автор
желание посмеяться над этими именами. Мол, никакое не подходит. А имена
освященные, политые кровью. Хоздазат, Варахисий. Кстати, Акакий – это один из
сорока севастийских мучеников.
Саша хотела мыть посуду, мать нас прогнала. Наконец-то я был
в комнате Саши.
– Прямо светелка у тебя.
– Вся тобою заполнена, – тихо сказала Саша, отводя
мои руки. – Тут я стояла, когда луна, потом все время музыка. Она во мне
возникала, когда я думала о тебе, то есть все время. Такое было мучение думать,
угадывать: откуда она, чья? Я много всего и по памяти знала, и переслушала
много дисков, может, поближе начало «Итальянского каприччо», Моцарта
«Серенада», Пятая Бетховена, Глинка, Вагнер, Свиридов...