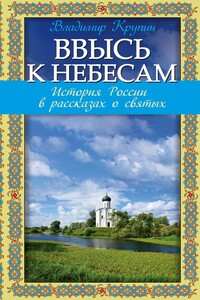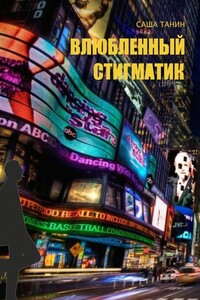– Бастуете? – спросил я, вспомнив основную
профессию свою. – Как социолог спрашиваю.
– Как социологу отвечаю: нет. Но бастующих понимаю.
Детей жалко. И учителей жалко. Я – ладно. Нет зарплаты – Аня прокормит хоть
как-то, хоть как-то на хлеб и пенсия мамина. А если у кого этого нет, тогда...
Я обнял ее и привлек к себе. Она вырвалась.
– Тебе пора. Пора, Саша. Ты, конечно, можешь подождать
маму и Аню, но лучше приходи сразу в школу. Придешь?
– Пойдем вместе. Познакомлюсь с ними, и пойдем.
– Тут... – Саша, видно было, думала, как лучше
сказать. – Видишь ли, у Ани... она изо всех нас самая здоровая, но у
нее... маленькое родовое пятно на лице, вот здесь, – Саша показала, –
у глаза. И она стесняется. Она потому и надомница, чтоб меньше выходить на
улицу.
– А это... это разве не лечится?
– Это...
– Очень дорого? Скопим. – Я вспомнил
Валеру. – Банк какой-нибудь подломим. Похож я на взломщика?
– Копия. Все-таки, Саша, приходи в школу.
– Но уж мороженое ты не запретишь принести. В пятницу я
буду твой Пятница.
– Ну хорошо, – согласилась она, – они так
мало видят сладкого.
И уже у дверей мы еще так долго и мучительно целовались, что
я вывалился на площадку со стоном, исторгнутым краткой разлукой. Потом была
школа, продленка, дети, полюбившие меня. А уж как я-то их полюбил!
А потом? А потом суп с котом. Саша в гостиницу не пошла,
даже внутрь не зашла, подождала, пока я пойду рассчитаюсь. Дальше? Дальше я ее
проводил до дому. В окнах горел свет, мы вместе не пошли. Измучили друг друга
прощанием в подъезде. Губы мои горели и болели. Ее, думаю, тоже, и еще сильнее,
чем мои.
А дальше полная проза – поезд, в котором даже и не раздевался,
хотя ехал в купе. Впервые за эти метания из Петербурга в Москву и обратно, и
снова обратно, я заметил, что езжу не один, ездят еще какие-то люди, о чем-то,
в основном о политике, говорят, что пытаются заговорить со мною. Но я ничего не
соображал ни в политике, ни в экономике, ни в социологии.
По телефону Саша запретила мне приезжать хотя бы неделю.
«Отоспись». Я это воспринял как «наберись сил» и неделю никуда не ездил. Дом,
работа, телефон, дом и снова по кругу. А уж и поговорили мы с Сашей! Провода
плавились от моих признаний. Будто все скопленное море эпитетов, сравнений,
комплиментов выплескивалось из берегов и снова наполнялось.
Эдик, заходя иногда ко мне и заставая меня у аппарата,
довольно хмыкал. «Дозревает?» – как-то довольно двусмысленно спросил он. Я
обиделся, но он объяснил, что спросил в том смысле, что дозревает ли до роли
жены. Мне стыдно было перед ним, но даже его высокие беседы, окрашенные горечью
иронии, мне уже не могли заменить разговоры с Сашей. Я знал о ней все. Я
рассказал ей о себе все. И вроде уже нечего было сказать, но тянуло снова
звонить. Я очень негодовал на министерство просвещения за то, что не провели
телефонов во все те классы, в которые ходит она.
Единственная тема, которая была под запретом, – именно
темы женитьбы. Когда? Саша замолкала и ничего не говорила в ответ на мой
всегдашний вопрос: когда?
И письма неслись от нас друг к другу. Неслись? Если бы
неслись! Они ползли. Демократическая почта драла дорого, а доставляла долго.
Нам бы времена Алексея Михайловича, когда почта из Москвы до Архангельска
доходила за сутки, а нынче от Москвы до Питера неделя и больше. Телефон,
конечно, подставлял ножку письмам, все можно сразу сказать и скоро, но в
письмах была сила перечитывания. Вначале судорожно выхватываешь места, где о
любви, где то, что помнит, ждет... ах, зачем эти слова о сестре, о школе. А,
вот! «... Еще думала, что ты как все, я же в женском коллективе, в бабьем
царстве учительниц и родительниц, а о ком они говорят? Угадай. Да, шарада
проста – о мужчинах. И с одной стороны, „уж замуж невтерпеж“, с другой – „не
ходите, девки, замуж: все ребята подлецы“. И так редко, чтоб хорошо говорили
о... вас, да, Сашечка, о вашем брате. Я затаенно молчу, но все время тебя
соотношу с рассказами женщин. И всегда: так бы Саша не поступил, Саша не такой,
нет, Саша бы так не сделал. Да, Саш? Не сделал бы?»