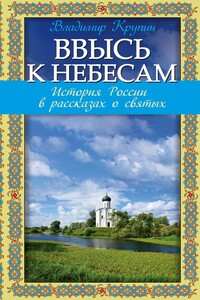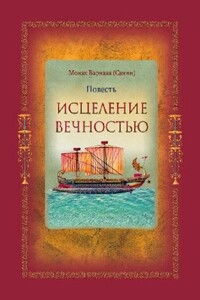Надо было действовать. Эдик говорил: после десанта надо
расширять плацдарм.
– Мы с тобой, Сашенька, уже имеем большую историю,
говоря по-русски, лайф стори. – Но я заметил, как дрогнула Саша. –
Прости, то есть уже так много мест, где мы виделись: и симпозиум, и Капелла, и
школа, и храм, все какие места значительные. А не было самого скромного,
какого-нибудь кафе. В ресторан к новым русским кавказцам мы не пойдем, а в то,
где не отравят и не курят, а?
Саша стала оглядываться, посмотрела на часы.
– Не знаю, я же всегда дома или в школе. В школе
закрыто. Домой? А пойдемте к нам. Чаю попьете на дорогу.
– То есть и в сегодняшнюю ночь город, переживший
блокаду, уснет без меня. Я уже столько раз был здесь и ни разу не ночевал. Меня
скоро проводницы как родного будут встречать. Эдик, ну, Эдуард Федорович,
говорит: хорошо, что ты не во Владивостоке был на симпозиуме, а то бы в
самолете стал жить. Летал бы два раза в неделю...
Что-то многовато я говорил. Но я замечал, что говорливость
налетает на меня перед чем-то грустным. Сейчас вот перед разлукой. Я почему-то
понял, что мы сейчас расстанемся. Но еще бодрился.
– Цветов купим, шампанского! И с порога – в ноги! Ты
так резко: мамочка, это случилось, позволь представить. Я: мамаша!..
Саша и не улыбнулась.
– У нас папа совсем ребенком пережил блокаду. Конечно,
это отразилось. Рано умер. Болел все время. Мама его пожалела... Мы с
Аней... – Она, видимо, что-то другое хотела сказать. – Мы с Аней
погодки. Аня такая мастерица, она надомница, она... Мама на пенсии. Досрочно.
По вредности производства. Она одна работала, мы маленькие, папа болел, на
химии была, за вредность выдавали молоко порошковое. Я этот порошок помню. В
коммуналке жили, мы с Аней спали валетиком, папа у окна, у него легкие. На полу
везде тазики с водой, чтоб легче дышать. Иконочка в углу. Мы всегда с мамой
молились за папу. Аня... – Она осеклась.
– Александра Григорьевна! Вам, Анне Григорьевне, маме
нужен в доме мужчина. Вроде меня. Не вроде, а я. Носить картошку, передвигать
мебель...
– У нас ее нет.
– Наживем!
Но что-то все-таки погрустнело вдруг в нашей встрече. Саша
мучительно посмотрела на меня.
– Завтра позвоните?
– И послезавтра тоже. А лучше завтра позвоню, а
послезавтра приеду урок проводить. Хорошо?
– Вы детям понравились. Я же говорила, в школе у нас
нет мужчин...
"Итак, чего я добился? – анализировал я свой
приезд, сидя в вагоне. – Поцеловал? Поцеловал, – думал я
уныло. – И что? Поцеловал, а дальше? То есть я не смог вызвать в ней
ответного чувства... Все! Наездился, насватался, хватит! Забыть и... Что
"и"?
Приплелся утром на работу. Набрал номер ее телефона. Никого.
Как никого? Она же сказала, что мать пенсионерка, а сестра надомница, то есть
кто-то же должен быть дома. Значит, велела им не брать трубку, когда
междугородный звонок. Набрал еще раз. Молчание. То есть не молчание, а в
пустоту уходящий мой крик. За эти сутки я все время ощупывал крестик и
потягивал себя за шнурок. Какое-то новое состояние я ощущал, но не мог понять,
в чем оно. Я набрал номер школы. И там не отвечают.
И еще много раз я набирал номера телефонов и дома, и школы,
звонки у них, наверное, обезголосели. После обеда ответили и там и там. Дома
сказали, что Саша в школе (я не посмел спросить, а они-то где были), а в школе
сказали, что она ушла. Я выждал, позвонил домой. Еще не пришла. Еще позвонил.
Нет, не пришла. Да, пожалуйста, звоните.
Охранник выгнал меня с работы, опечатывали. Все-таки у нас
было что охранять – техника. Плюс наши труды во славу демократической
идеологии.
Приплелся домой. Ходил искал пятый угол. Приказывал себе не
звонить. Приказал даже включить телевизор. В нем чего-то мельтешило.
Нет, надо позвонить. Вдруг с нею что случилось? Я позвонил.
– Саша! – враз сказали мы.
– Саша, что ты делаешь со мною! – заговорил я
горько. – Ты представляешь мой сегодняшний день, вообще всю мою последнюю
жизнь? Я что, шучу, что ли, что люблю тебя?
– Саша, – отвечала она, – не надо так.
– А как надо? У тебя кто-то есть? Скажи, не умру, то
есть умру, но все равно скажи.