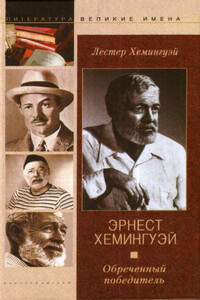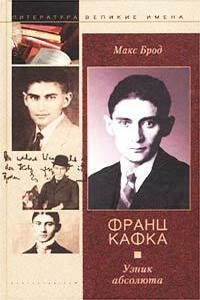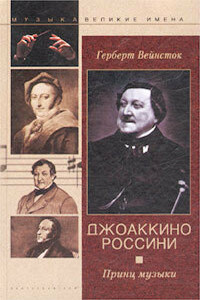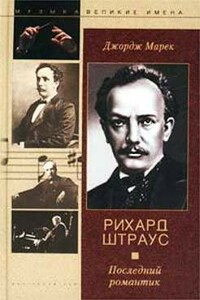«Мой дорогой Байрон. Я обращаюсь к вам так потому, что не собираюсь отказываться от дружественного тона в письмах, особенно в этом. Шелли как-то сказал мне, что вы были бы не прочь, чтобы я составил вам компанию в Италии, и что вы могли бы прислать мне денег, чтобы я отправился туда… В то время я стеснялся обратиться к вам с этой просьбой, потому что с первого дня нашего знакомства вы были окружены в моем воображении романтическим ореолом, возможно нелепым, и я надеялся пробудить в вас воспоминания о юношеской дружбе и показать, что вами можно восхищаться, преклоняясь перед вашим интеллектом и щедростью… Должен предоставить вам более веское доказательство моих представлений о юношеской дружбе и попросить вас о помощи. Если возможно, я взял бы у вас взаймы на другие дела, помимо путешествия, двести пятьдесят фунтов, только вы должны дать мне два года на оплату долга…»
Шелли, знавший о манерах Ханта, чувствуя неловкость, предупреждал Байрона: «Не думаю, что обещание бедняги Ханта вернуть деньги стоит многого, однако мое обещание более твердо, и я с радостью бы оплатил все расходы». Но Байрон считал себя обязанным Ханту и был настолько заинтересован в создании совместного периодического журнала, что предоставил Ханту деньги, несмотря на дерзкий тон его просьбы и собственное нежелание бросаться деньгами. Байрон не знал, что Шелли неосторожно сказал Ханту: «Знаешь, леди Ноэль умерла, а лорд Б. еще больше разбогател».
Однако полученное наследство сделало Байрона еще более сосредоточенным на мысли о его сохранении. Превращение юного мота в бережливого человека, возможно, объяснялось тем, что в возрасте тридцати четырех лет он начал ощущать стремление к обеспеченной старости в век волнений и тревог. Он постоянно думал о том времени, когда ему придется заботиться не только о себе, но и о своем ребенке, возможно, о Терезе и ее семье и даже об Августе и ее детях.
Но беда подстерегала Байрона с другой стороны. Недовольство Клер провалом попытки Байрона привезти Аллегру с собой или взять ее из монастыря после отъезда из Равенны подвигло ее на безумные планы спасения дочери. Шелли и Мэри, по ее мнению, были слишком близки с Байроном, чтобы им можно было доверять, но ее поддерживали миссис Мэйсон (леди Маунткэшелл) и другие ее друзья в Пизе. Байрон оставил без внимания два письма Клер, в одном из которых она просила поместить Аллегру в уважаемой семье в Пизе, а в другом умоляла позволить ей повидаться с дочерью перед отъездом в Вену, куда она направлялась, чтобы найти там работу и встретиться со своим братом. Байрон, в котором мольбы Клер пробуждали сопротивление и презрение, отвечал упорным отказом. Между тем Клер приехала в Пизу.
Шелли сочувствовали ей, но хранили нейтралитет и считали, что Клер преувеличивает опасность, которой подвергается Аллегра в монастыре. Шелли, смягченный жалобными мольбами Клер до возвращения во Флоренцию, завел с Байроном разговор о причине ее тревог и попросил его сделать что-нибудь, чтобы успокоить ее. По словам Клер, ответом Байрона «было пожимание плечами и восклицание, что женщины жить не могут без сцен». Шелли был рассержен и говорил Мэйсонам, что в тот момент мог бы ударить Байрона, но впоследствии сказал: «Глупо сердиться на него: он не может перестать быть собой, как дверь не может перестать быть дверью».
Однако с того дня Шелли испытывал непреодолимое желание воздерживаться от встреч с Байроном. Но ради Ханта он не мог разорвать с ним отношений, пока не выйдет в свет новый журнал. И несмотря на все, Шелли, как и Мэри, не мог не испытывать восхищения перед Байроном, когда был рядом с ним, и продолжал преклоняться перед его стихами. Прочитав в 1830 году «Письма и дневники Байрона», изданные Муром, Мэри написала Джону Меррею: «Больше всего меня завораживает то, что лорд Байрон, описанный здесь, является настоящим лордом Байроном, очаровательным, грешным, ребяческим, философствующим существом, бросающим вызов всему свету, верным друзьям, порывистым и праздным, хмурым и одновременно жизнерадостным. Читая эти страницы, я снова вижу себя рядом с ним, примиряясь, как и раньше, с его странностями, которые меня так раздражали, вновь слышу его восторженные и порывистые речи…»