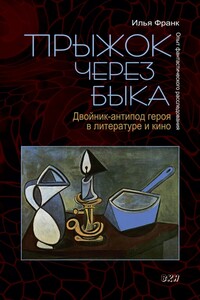Композиция первой части, строящейся довольно строго на обрамлении начального парадокса-абсурда и финального риторического восклицания, написанного ритмической прозой «в духе Ивана Тургенева», нарушается во второй части: пародийное снижение истории не имеет ритмического обрамления и лишено прорывов сквозь видимую реальность. Третья часть, соединив и сконцентрировав мотивы тоски и смеха-хохота, преобразовала и план «выше». Здесь нет диалогов с ангелами, но есть обращение к Богу, оставшееся безответным. Эта «безответность» порождает ситуацию своеобразного диалога, где отсутствие ответа есть достаточно определенный ответ: «Весь сотрясаясь, я сказал себе: „Талифа куми!“. То есть встань и приготовься к кончине. Это уже не „Талифа куми“, то есть „встань и приготовься к кончине“, — это лама савахфани, то есть „для чего, Господь, Ты меня оставил?“» (с.118). Господь его оставил для того, чтобы он никогда не приходил в сознание и не понимал, что он — «посторонний» как для людей, так и «для тех, кто выше».
Но тот же принцип антиномии сохраняется и на еще более высоком уровне, где вырисовывается модель мира, заложенная в жанре. В одном из первых изданий ерофеевский текст появился под жанровым подзаголовком «роман-анекдот», предполагающим смеховую реакцию, и только позже стал издаваться как поэма. Эти жанровые обозначения не просто типологически несводимые, но даже, можно сказать, противоироничные. Заявленная сразу как путешествие в поисках своего «я», поэма не «состоялась» как жанр, ибо герой не достиг цели, а сюжет приводит его не туда, куда он хотел, а туда, куда он не хотел, т. е. «строго антиномично». Как тип героя, Веничка, безусловно, более романный, чем поэмный, и «человеколюбивый убийца» Раскольников как тип романного героя ему ближе, чем Каин или Манфред, классические герои жанра поэмы. В тексте в качестве жанровой компоненты упоминается и философское эссе, идеальным образцом которого служит «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» Камю. Коллаж не только стилевой, но и жанровый, ибо герой — и «посторонний», и дурак, и демон как падший ангел, и пустомеля как сниженный вариант Шахразады, рассказывающий «историю в картинках» Семенычу и свою душу нам, читателям. Иначе говоря, герой, причастный как русской культуре, так и западной, как земле — русской, французской, Помпееям, Геркулануму, так и «выше» — ангелам-спасителям и смеющимся ангелам, подобным хохочущим над смертью детям. Тоска и одиночество героя в первой части сменились смехом, дьявольски объединившим его с «историческими личностями» в гоголевском определении этого понятия, и завершились хохотом сил «выше» его. Так, Веничка оказывается «посторонним» и силам, которые «выше» его.
Заявленная трехчастность сюжета углубляется классической триадой философских систем: в тексте представлена классическая философия в лице Гегеля и Канта, философия жизни (Шопенгауэр и Ницше) и философия существования (Сартр и Камю). Философия в поэме Ерофеева — отдельная серьезная тема, здесь же возможны только некоторые замечания, непосредственно касающиеся нашей проблемы.
Кантовская философия, помимо очевидного в тексте упоминания «вещи в себе» и «чистой» идеи, возможно, косвенно отразилась и своей космогонической концепцией, которая трактовала возникновение Земли из первоначальной туманности. Если это так, то особое значение приобретает финал, где, наряду с тьмой и чернотой, нагнетается атмосфера тумана: «А потом, конечно, все заклубилось. Если вы скажете, что то был туман, я, пожалуй, и соглашусь — да, это был туман… Этот жаркий туман повсюду — от лихорадки, потому что сам я в ознобе, а повсюду жаркий туман» (с.110), «Вот этот дом, на который я сейчас бегу, — это же райсобес, а за ним туман и мгла» (с.116). В контексте финала этот туман, дополняющий тьму и черноту, с одной стороны, а с другой — молчание и ненужность времени, означает конец не только его бытия, но и жизни всей планеты: из тумана возникла, им же и поглотилась. По крайней мере, так могло представляться больному мышлению Венички, отражавшему его бытие.