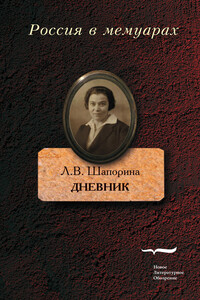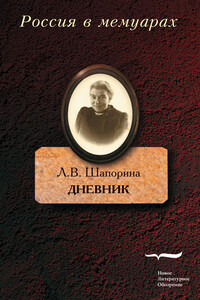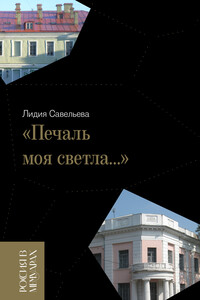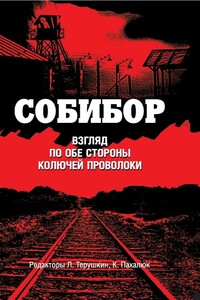Сблизило нас какое-то духовное созвучие, несмотря на то что я был намного моложе и явился из совершенно другого мира, отдаленного от него астрономическим расстоянием. Именно это замечание насчет астрономического расстояния, отделяющего одного человека от другого, как звезду от звезды, вырвавшееся у меня при первой же встрече, очевидно, задело какую-то струнку в нем, которая продолжала вибрировать, как ритм поэмы, сквозь все годы нашей большой и все больше крепнувшей дружбы. С той самой минуты, крайне щепетильный, гордый и сдержанный, а когда дело шло о нем самом, аскетически целомудренный Разумник Васильевич ощутил потребность раскрывать при мне вслух историю своей собственной мысли или, иными словами, своей жизни, совпадавшую в его восприятии с развитием способности сознательно служить общему, общечеловеческому делу. Потому что, чем же иначе может быть оправдана жизнь человека? Антроподицея (оправдание человека), в противовес теодицее, была первым и последним его словом. Важно это потому, что где-то сохранилась рукопись его большого сочинения, которое называется «Антроподицея» и из которого он читал мне отдельные отрывки. Эта рукопись во время немецкой оккупации попала куда-то в Германию[167]. Я считаю своим долгом хотя бы упомянуть об этом.
Уже при первом нашем разговоре с Разумником Васильевичем у Эрберга о Философской академии я имел некоторое представление о духовных ценностях его, таившихся за неприглядной внешностью самого выдающегося из современных мне хранителей традиций Герцена, Лаврова и Михайловского[168]. Но я еще не знал тогда, что пенсне на землистом лице с расползавшимися усами Разумника Васильевича вооружало его стеклами для двойного, я бы сказал, магического зрения. Лишь постепенно я разглядел, что он смотрит на вопросы и политического, и личного порядка одновременно широко и узко, одновременно сквозь увеличительное и уменьшительное стекло. Вначале я удивлялся этому, как необъяснимой слабости вообще-то сильного ума, но позднее проник постепенно вглубь его личности и, сравнивая магические стекла его зрения с двойным и тройным зрением вовсе не косившего Александра Блока, я стал соображать, что Блоку-поэту, так же как Разумнику-прозаику, невозможно было обойтись без стекол, отшлифованных по индивидуальному рецепту. Как Блок, Разумник жил в мире, как будто бы для него одного строившемся и так и оставшемся недостроенным. Разумнику Васильевичу, человеку хрупкого здоровья, в то время прихварывавшему, изголодавшемуся, так как каждый лишний ломтик хлеба или кусочек сахара он сохранял для семьи: жены своей Варвары Николаевны и детей Левы и Инны[169], окруженному в литературных кругах злорадным недоброжелательством, казалось бы, предопределено было самой историей всероссийской общественной мысли впасть в уныние и опустить руки. Но нет! Несмотря на неприглядность повседневной жизни, Разумник Васильевич смотрел на вещи широко. Если верно, что «христианство не удалось», думал он, то разве отсюда следует, что мир обошелся бы без христианства? Если большевики заодно с черносотенцами делают все возможное и невозможное, чтобы социалистическая революция не удалась, то разве всемирная духовная революция не столь же нужна теперь, в 18-м году, как накануне всемирной войны, когда первой ее жертвой пал философ-трибун Жан Жорес[170]? Наоборот, именно теперь, когда за границей и в России готовы продать право первородства — духовную революцию — за чечевичную похлебку материализма, как раз теперь пробил час нового восхода, нового провозглашения немеркнувшего начала: «Да будет свет!» Так воспринимал нашу непосредственную задачу в этот медленно угасавший предвечерний час руководитель нашего скромного совещания. Его подспудный энтузиазм я стал ощущать исподволь, и когда он тут же предложил мне набросать к следующей встрече проект устава академии, я, как младший, не счел возможным отказаться от порученной мне черной работы. Мог ли я уже тогда постичь, что для Разумника все, касающееся академии, было не только почетным, но чуть ли не святым делом?