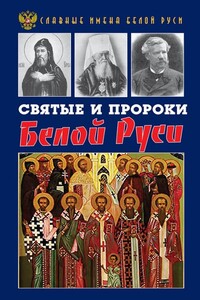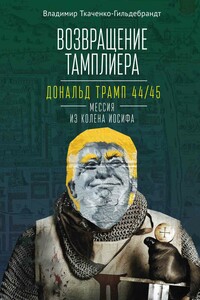Литературный архипелаг - страница 29
Биография донского самородка, вклинившаяся в наш академический уют так неожиданно для меня, толкнула мою мысль так же неожиданно в новом направлении: а должна ли наша академия отдавать предпочтение эстетическому началу перед этическим? Судьба бедной Лиды требовала нашей реакции. Если бы не Сальери отравил Моцарта, а наоборот, мог ли бы автор «Каменного гостя» стать членом совета Философской академии? Такой вопрос задал я учредителям нашей академии. «По Пушкину, — сразу же заметил Разумник, — гений никак не может быть злодеем». А что такое злодейство вообще? В связи с этим вопросом все больше росло ощущение, что намечается между нами глубокое разногласие. «Подождите, когда с нами будет Борис Николаевич, — старался ободрить меня Эрберг, — вашего полку, наверное, прибудет». Согласившись с Эрбергом, что кресло живописи вполне достоин занять Козьма Сергеевич Петров-Водкин[181], мы с Разумником вышли на улицу и пошли по направлению к Царскосельскому вокзалу. Едва мы очутились вдвоем на улице, как Разумник Васильевич тотчас заговорил о Белом.
Имя Бориса Николаевича Бугаева — Андрея Белого невидимо присутствовало с самого начала во всех разговорах Разумника Васильевича о новом философском содружестве. Сейчас же по приезде моем из Москвы, еще до того, как он познакомил меня с Блоком, Разумник упомянул, что если Вольная академия чем-либо наперед обеспечена, так это прежде всего своим президентом — Андрей Белый охотно согласится возглавлять ее. Белого я знал главным образом как автора «Серебряного голубя»[182] и своеобразного теоретика символизма. Но я склонен был считать его, по сравнению, скажем, с Брюсовым, Сологубом и даже Бальмонтом, одним из младших мастеров. Для Разумника Васильевича же Андрей Белый был чем-то совершенно исключительным: аксиомой, заветом и залогом. Залогом чего? На это подробно ответило последовавшее четырехлетие. Разумник Васильевич как будто торопил меня, новичка, поскорее чему-то научить, вразумить, правильно поставить мой внутренний голос. Были в его словах нотки опасения, какого-то сомнения — выдержу ли я экзамен. Чем больше он говорил, слегка выделяя чуть ли не каждое третье слово, тем чаще всплывали и мои собственные сомнения. А не говорит ли в нем смутное предчувствие какого-то соперничества, хотя бы даже с таким юным питомцем Гейдельбергской бурсы, как я. Замечание Эрберга о возможном согласии Белого с моим мнением о гениях и злодеях могло как-то особенно задеть Разумника, для которого Белый был залогом, заветом и аксиомой. Ведь что я услышал в завершение нашего разговора о «вернейшем рыцаре» прекраснейшей из литератур? В двух словах: не будь Белого — не нужна была бы и вся наша академия, не он для нее, а она для него. По Разумнику, в творчестве Белого сконцентрированы все заветы русской литературы, он залог того, что линия Пушкин — Толстой не оборвется. На мелкотравчатом пути современной литературы он нечто прочное и непоколебимое, нечто в то же время стихийное. В Белом сглаживаются все противоречия, в том числе и разлад между интеллигенцией и народом. Одним словом, говоря языком Эвклида, Андрей Белый — аксиома, предпосылка всех предпосылок. Разумник Васильевич даже стал волноваться. Ранний октябрьский вечер, по-петербургски слякотный, серый и сырой, по-видимому, вызвал в нем, опять прибегая к тому же языку Эвклида, как бы от противного — болезненную, горячечную жажду прозрачного, чистого Белого, неразрывно связавшего все творчество свое с всеобъемлющей идеей белизны. Такое поэтическое толкование Белого утвердилось и во мне месяца три спустя, когда я впервые увидел Бориса Николаевича, шагающего по кабинету Иванова-Разумника на Колпинской в Царском