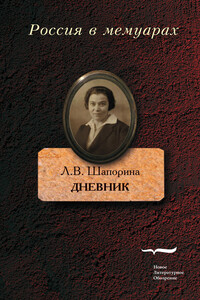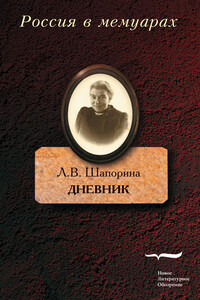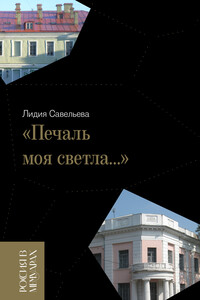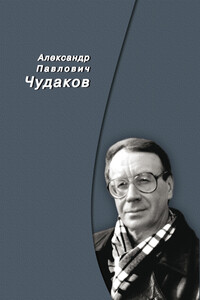Я вздрогнул и стал слушать с напряженным вниманием. Совсем как у Разумника Васильевича: спящие и бодрствующие. Неужели драматический смысл встречи с Шестовым сейчас разъяснится в неожиданной развязке?
«Да поймите же, — снова заговорил после минутного молчания мой молодой друг, — если бы я не считал богохульством выражаться по-церковному, я бы сказал, что Леон Шестов — мой Спаситель!»
«Что это значит?» — прервал я его, чтобы наскоро противопоставить этого мученика-одиночку жизнерадостным «сектантам» из Уругвая. «Очень просто. Мне случайно попала в руки книга неизвестного мне автора, Леона Шестова, с год тому назад. В это время я страшно себя ненавидел и страшно презирал людей вообще. Я раскрыл книгу наугад. Бросились в глаза имена Достоевского, Ницше. И произошло нечто совершенно небывалое. Фразы были простые, мысли тоже несложные, все как будто даже скучновато, и вдруг мне захотелось плакать. Стало бесконечно жаль себя и всех людей, и все мироздание, и я вдруг понял, что нельзя никого осуждать, даже самого себя, как бы я ни был развратен и виноват. Этого, конечно, не было в тексте, но как-то исходило из него, как заклинание между строками. Я слышал голос наяву, доносившийся со страниц книги: а ты проснись, а ты не спи, а ты и во сне бодрствуй!.. Я не мог удержаться и расплакался. С тех пор я с Шестовым. И я могу жить, и могу верить, и могу надеяться… Вот только любить я еще не могу. Но с Шестовым и этому научусь!»
Наши продолжительные беседы в последующие дни убедили меня, что дело в данном случае шло не о случайном совпадении «катарсиса» блуждающей души, подготовлявшегося, по-видимому, постепенно, с чтением французского перевода какого-то неизвестного русского автора, а что он сам, этот автор, призван был действовать «очистительно» на запутанный ум и запятнанную совесть. Невозможно отметить на полях книг Шестова красным карандашом, какие именно афоризмы или изречения его заряжены такой взрывчатой духовностью; не отчеркнуть ногтем ни одной такой фразы, ни одного эпитета! Но глаза при чтении его книг непроизвольно соскальзывают в узенькую белую полоску между строк, и там-то, сквозь строчки, и открывается прищуренному глазу просвет в иной мир. Поколение, предшествовавшее Шестову, не могло этого видеть; не видели этого ни его ровесники, ни шедшее за ними поколение, к которому принадлежал и я. Но в нас уже что-то было задето, и мы не могли пройти мимо него равнодушно. Когда около пятидесяти лет тому назад мне пришлось в Петрограде, ставшем под властью палача-опричника Петерса[773] на время снова «Пе-терс-бургом», писать для литературного сборника статью «О развитии и разложении в современном искусстве»[774], я причислял Шестова к глашатаям и проповедникам «разложения». Уже тогда, однако, я посмел выразить надежду, что разложение, дошедшее до крайности, обратится в свою противоположность и откроет просторы для нового изначального синтеза. Случайная встреча со случайным восприемником шестовской очистительной вести, перед грядою снежных вершин, отозвалась во мне внезапным возрождением собственной юношеской мечтательности.
«Значит, — думал я, сидя в аэроплане, уносившем меня из Швейцарии, — и это возможно. Шестов — явление безвременья и продукт разложения, но он же и предвестник, и предтеча того, что грядет за веком всечеловеческого кризиса. И идущие на смену нам поколения это чувствуют. Если бы вся его писательская деятельность имела лишь одно это последствие — исцеление одной-единственной души, ставшей невинной жертвой всемирного кризиса, — как не признать, что этим одним погашены все недочеты в произведениях и все житейские долги Льва Исааковича. Так, как он пришел с того света на помощь своему правнуку из Бельгии, так мог прийти на помощь лишь сын человеческий, облеченный призванием во Имя!»
Пока я жив, я продолжаю свои беседы с Львом Исааковичем. Содержание их, однако, не задевает того основного, на чем зиждется жизнь человеческая. В этом отношении господствует полное согласие. И если бы я был вызван на Страшный суд по делу Льва Шестова и его сочинений, все мои показания были бы в его пользу и против Князя Обвинителя. Не могу судить, пригодится ли мой набросок портрета с натуры для приобщения к «делу», но я писал его, не только подражая живописцам, но и как откровенное личное послание многолетнему спутнику.