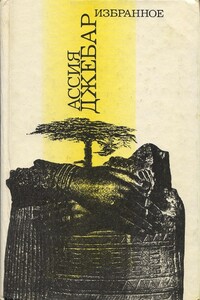Где явь и где сон — в конечном счете эта альтернатива утрачивает для художника значение. Возникает некий аналог Кальдероновой ситуации с подменой одного другим, первого вторым, второго первым — на паритетных началах, на основе безразличного равновесия, равноправия с завязанными глазами. Но развяжем глаза хотя бы самим себе, и тогда нам откроется в экспериментах Дали двойничество на манер Борхеса, живописный праобраз его исследовательской новеллистики.
В тридцатые годы двадцатого века на страницах нашей молодежной периодики нет-нет да и появлялись загадочные картинки, линии коих имели двойное прочтение: на первый взгляд перед публикой обычный лес (обычная комната, обычный портрет), но текстовка к рисунку обязывает читателя-ребенка обнаружить припрятанные рукою художника среди деревьев (шкафов, столов) фигуры охотника, белки, собаки. Послушное дитя кидается на выполнение редакционного клича и — в духе времени («кто ищет, тот всегда найдет») — находит и охотника, и белку, и свисток, и даже Фенимора Купера, отсутствовавшего как в задании газеты, так и в замысле графика.
Боюсь предполагать, да вынужден: поветрие мнительности (бдительности?) вокруг тетрадок той поры (не кроются ли вражеские лозунги среди штрихов на тетрадке, оформленной по пушкинским мотивам: «У лукоморья дуб зеленый»?!) поощрялось баловством художников на страницах «Костра» и «Пионера».
Первая редакция на «Невольничий рынок, или Исчезающий бюст Вольтера» у людей, учившихся читать в тридцатые годы двадцатого века, бывает именно такой: что им показывают очередную загадочную картинку. Эффект психологически понятный и весьма распространенный. Дефекты восприятия переносят по принципу «валить с больной головы на здоровую» на искусство, и тогда мы имеем дело вроде бы с дефектами произведения: Маяковский рифмует так, как он рифмует, потому что ему трудно рифмовать, как Пушкин или Лермонтов; Пикассо или Миро рисуют так, как они рисуют, потому что они не умеют рисовать, как Шишкин или Айвазовский.
Фокусы Дали — искусство, а не фокусы, пускай даже у их истока преднамеренная расслабленность авторской идеи, йоговская блажь, свободный поток художественных соответствий и дисгармоний. Дали — дивный специалист по манипуляциям с бессознательным, стихийным, бесконтрольным, но распускает мышцы и отпускает вожжи ради отчетливой цели: потом напрячься, подтянуть узду и, что называется, полностью овладеть положением. Когда это ему удается — как, по моему мнению, в «Невольничьем рынке», — перед зрителем вырастает значительное событие живописи.
Степень многозначности, многослойности — редко учитываемый признак живописного изображения. В разговоре о Дали этот признак необходимо учитывать на каждом шагу: художник настроен на двусмыслицы и двусмысленности, как Ежи Лец или Козьма Прутков на каламбуры. И хватит видеть в каламбурах признак празднословия, легкомыслия или даже слабоумия. Большой мастер каламбуров Георг Вильгельм Фридрих Гегель выражал с их помощью достаточно сложные мысли — уж во всяком случае более сложные, нежели те, кои проповедуются достопочтенными обличителями словесного остроумия.
Многослойность картины у Дали — результат двойного или более общо множественного зрения, которым непременно наделяется здесь «повествователь». Этот отсутствующий на холсте (а то и присутствующий, как в «Невольничьем рынке») персонаж видит — и отражает в зеркале своего восприятия, в зеркале картины, духовную субстанцию действующих лиц. Он медиум, он телепат, он экстрасенс. И сверх того, он еще и художник высокого технического мастерства.
Так что грезы и мечты обретают на холсте такую же плоть и плотность, как предметы из инвентарного списка по ведомству Ее Величества Реальности, и, попав в один с ними смысловой ряд, смешиваются с толпой и в толпе теряются, как преступник, задумавший неузнанным раствориться среди других.
Дали побуждает зрителя к дифференциации фактов, побуждает понять, что относится к внутренним переживаниям героя, а что — к реальной жизни. Впрочем, насладившись щедрыми дарами многозначности, художник во многих случаях четко расставляет акценты. Кесарево воздает кесарю, Юпитерово Юпитеру, а быку — что причитается быку.