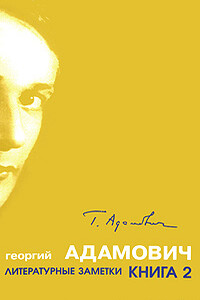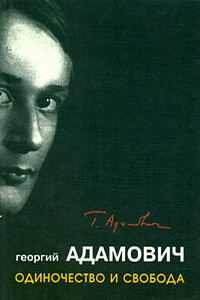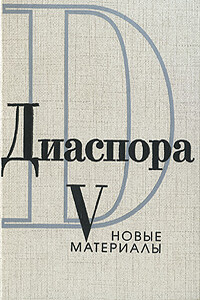Главное действующее лицо романа — Митька, «вор», человек властный, обаятельный, с налетом романтической таинственности, кое-чем напоминающий Ставрогина и. как Ставрогин, не находящий ни применения, ни выхода своим силам. Митька с высот жизни опускается на самое дно ее и к концу романа в великой тоске ищет духовного воскресения. Это образ не совсем отчетливый, но задуманный глубоко. Остальные лица яснее, и психологическая обрисовка их, пожалуй, правдивее: Николка Заварихин, этот советский «удал-добрый-молодец», веселый, хитрый, цепкий; прекрасная Манька Вьюга; спившийся «барин» Манюкин, сочиняющий витиевато-слезливые письма к Николаше, несуществующему своему сыну, и за четвертак потешающий новых господ рассказами о фантастической былой роскоши; простодушная Зинка, влюбленная в вора; ее жених, желчный управдом Чикилев; наконец, Гелла Вельтон, цирковая акробатка, разбивающаяся насмерть (едва ли не лучший эпизод романа — самый законченный, самый выразительный). Крайне искусственно введена в роман фигура писателя Фирсова, который будто бы сочиняет о действующих лицах повесть, забегает то сюда, то туда, сообщает мысли автора, комментирует поступки героев и всюду суется без нужды и толку. Леонов, к сожалению, уступил тут прихотям времени, требующим «сдвинутой конструкции», и пожелал, чтобы и у него было все «как у других» — по излюбленному выражению поручика Берга из «Войны и мира». Напрасно. «У других» все гораздо хуже, чем у него — и подражать им Леонову не стоило.
Мысли автора выражает, впрочем, не только Фирсов, но порою и пьяненький Манюкин, и за кудрявым слогом его посланий к Николаше чувствуется иногда, несомненно, сам Леонов.
Манюкин пишет о вещах самых разнообразных. В завещании он вспоминает Россию. «Ты, Россию, а с нею весь мир, принимая из рук моих, вопрошаешь меня безгласно о мыслях моих. Что ж! Россия есть прежде всего народ, обитающий некое гладкое географическое пространство. Не березки, не овражки, не белые барские усадебки… есть Россия. Ныне не пугаюсь, когда спиливают березку, сожигают от полноты сердца усадебку… Лушу народную да охранит Господь от зла, а ты помоги ему в этом, ибо коротки руки стали и у Вышнего».
Что же, пора и народу выглянуть в Петрово окошко.
Может, и дорос, и приобрел все пороки, должные для управления любезным отечеством.
…Кто скажет? Ведь мы и народ-то знавали лишь по лакеям, бантикам, извозчикам да нянькам. И вот видится мне «иное лицо и дела иные»…
Нельзя решить, объединен ли леоновский роман одной какой-либо «идеей». Если и есть такая идея в нем, то лишь очень старая и общая; идея греха и искупления, падения человека и вечной возможности спасения. Было бы правильнее назвать это не идеей, а темой, и всякий знает — это тема, вечно тревожившая Достоевского. Вероятно, Достоевский внес бы в леоновскую фабулу просветляющий, проясняющий трагизм, осветил бы ее светом беспощадно-резким. У Леонова в «Воре» есть что-то тягучее, есть какая-то «кашеобразность». Но ведь ему нет еще тридцати лет! И скорее залогом его роста, чем доказательством слабости является эта медленность его развития, эта «честность с собой»: не говорить о том, чего еще не знаешь, не видишь, не понимаешь. Уже и сейчас Леонов разбирается в человеке, в его помыслах и желаниях, в его радостях и несчастьях как никто из наших современников. Уже и сейчас он умеет человека изображать — и, по-видимому, чувствует потребность и право человека сулить, т. е. прежде всего самого себя в каждом из своих героев. Все в нем обещает, что он будет истинным поэтом, в широком смысле слова, — почти ручается за это.
Но не будем гадать. Поблагодарим за «Вора», этот «нечаянный подарок», запомним имя Леонова, — и будем ждать его новых книг.