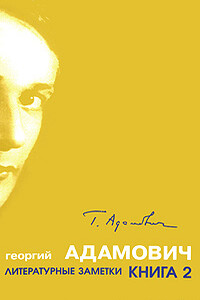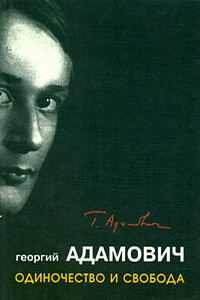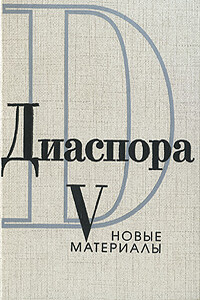В «Работе над стихом» он оказался прежде всего совершенно безграмотным. Он обнаруживает полное незнание истории литературы, он перевирает все цитаты, размышляет о байроновском «Дон-Жуане», несомненно никогда его не читав и лишь благодаря этому отыскав там Командора и донну Анну… Вообще, если бывают книги, о которых предполагаешь, что они написаны «нарочно», с какими-то скрытыми целями, чтобы над кем-нибудь посмеяться или кого-нибудь подвести – то именно такова книга Асеева. Но, пожалуй, в юмористической книге автор не стал бы так серьезно и прилежно сводить счеты со своими соперниками — с Сельвинским, например, который его явно затмевает и популярностью и талантом — не стал бы вскользь, между строк, напоминать читателю, как его ценил Валерий Брюсов, как высоко ставит его творчество Маяковский, как дорожит его сотрудничеством редактор «Правды».
Некоторые страницы Асеева заслуживают бессмертия. Вот одна из них.
Асеев цитирует Тютчева, или, правильнее, Тютчева-Асеева, так как цитата искажена:
О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
Зачем ты бьешься па пороге
Как бы двойного бытия?
Затем он пишет:
«Эти строки, так неожиданно заканчивающие знаменитый "Фонтан", обычно истолковываются, как тончайшая формула пантеизма, перехода из одного материального состояния в высшее, духовное.
На самом же деле можно с гораздо большим основанием предположить об их ином смысле: борьбы в тютчевском сознании двух родов, двух видов деятельности – чиновника и поэта.
В Тютчеве боролись два начала – женственности, лиричности и вкрадчивости, сдержанности, внешней холодности дипломата. Отсюда и
Мысль изреченная есть ложь.
Двойной символический язык дипломата не формировал ли жанр Тютчева?»
Что ответить на все эти невежественные пошлости? Во-первых, приведенные Асеевым четыре строки ничего не «заканчивают» – ими начинается одно из тютчевских стихотворений. Во-вторых, – они к «Фонтану» отношения не имеют. В третьих… впрочем, в третьих, о строго-марксистском толковании тютчевской тревоги, как сомнений в окончательном выборе карьеры, – пусть каждый судит сам.
«Петрополис» только что переиздал «Роман без вранья» — воспоминания Мариенгофа о Сергее Есенине. В анонимном предисловии издательство высказывает предположение, что книгу эту всякий прочтет «с большим интересом и не без пользы». Предположение правильное: книга увлекательна, а насчет пользы ее можно сказать, что перечесть настолько умные и правдивые записки о гибели человека полезно всегда. Есть в есенинской истории и материал для раздумий, и предостережения, и урок.
Сами по себе Есенин и его слава сильно померкли за эти годы. Правда, это не неожиданно. Преувеличение дарования Есенина и его значения в первое время после его самоубийства было очевидным, — и было что-то оскорбительное по внутренней своей нелепости в похоронах поэта, когда гроб его троекратно обнесли вокруг памятника Пушкина, и странный этот обряд истолковывался как признание Есенина пушкинским сыном и наследником. Услуги глупые, как известно, «опаснее врага», — и, право, насильственное, ни на чем не основанное сопоставление Есенина и Пушкина было рискованной услугой ему. Если в тогдашнем дурмане немногие это понимали, — то подумайте теперь.
У смерти есть одно неотъемлемое свойство: она все ставит на свое место, и небольшого срока бывает для этого достаточно. Восемь лет тому назад умер Блок, и эти восемь лет как будто окружили его сиянием: уже нельзя сомневаться, что Блок истинно «великий» лирик — из семьи и рода наших первых поэтов. При жизни его мы не вполне ясно отдавали себе отчет в его значении и говорили «Блок и Брюсов», «Блок и Гумилев», как, вероятно, сто лет назад говорили «Пушкин и Языков», «Пушкин и Дельвиг» — не чувствуя пропасти между этими именами. Современникам трудно судить о росте: кто ближе, тот и больше. Но теперь невозможно сказать даже «Блок и Сологуб», — все былые пристрастия уже отпали, и трагическая человечность Блока решительно вознесла его над всеми его недавними соперниками. Есенин после своей смерти растерял своих поклонников, и подлинная величина его мало-помалу становится всем ясной. Но отчасти смерть и к нему оказалась благосклонной: если десять лет тому назад, в пылу литературных столкновений и полемик, можно было утверждать, что Есенин — «не поэт вовсе», то теперь этого искренно и серьезно не скажет никто. Бесспорно, Есенин — поэт. Но растерянный, безвольный, слабый, — какой-то блудный сын, не успевший или не сумевший вернуться домой. Прелестные строчки то там, то здесь, но и только, — и никакого трагизма в голосе, в тоне, никакой неисцелимости в душевной боли: если бы поудачнее сложилась жизнь, то повеселее оказались бы и стихи. Это не Блок с его невозможностью быть иным, чем он был, и его огромным чувством ответственности за каждое, даже случайно сорвавшееся слово… Но все-таки «отдадим должное»: прелестные строчки, то здесь, то там, — такие, как не часто найдете и у самых прославленных поэтов.