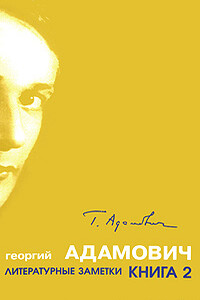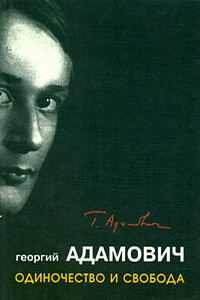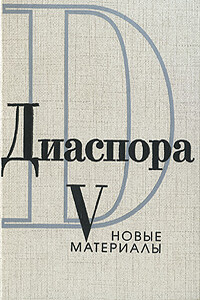Но Кавалеров пить не желает. Кавалеров остается при особом мнении. Примирение для него невозможно.
Роман вовсе не плоско тенденциозен, как это может показаться по пересказу. Взаимоотношения Кавалерова и Бабичева не исчерпываются обычными, всем знакомыми схемами, и самые образы их жизненно сложны, жизненно противоречивы. Причудливейшая фантастика, идущая несомненно от Гофмана, вплетается в отчетливый и правдивый реализм. Некоторые чисто реалистические сцены романа написаны восхитительно, я не нахожу другого слова: сцена игры в футбол, например, или расправа Ивана Бабичева с девочкой на берегу.
Конечно, главное значение романа для советской критики – в его идеологии. Но следует заметить, что Олеша дает в этом отношении только материал, толковать который каждый может, как ему угодно. В чертах Бабичева и Володи есть, несомненно, что-то комическое. Утверждает Олеша только то, что сейчас происходит разрыв двух эпох — но кто же этого не видит и не сознает. Его «беллетристический комментарий» к этому утверждению не страдает никаким предвзятым упрощением. Олеша склонен кое-что подчеркивать, преувеличивать, но он не притворяется, что в теперешней исторической путанице все для него разложимо и понятно. Оттого ему удается остаться художником в романе, написанном на публицистические темы.
Борис Пильняк – писатель настолько сбивчивый, расплывчатый и туманно-восторженный, что никогда, собственно, нельзя определенно сказать, о чем он пишет. Начнет какое-нибудь повествование, вполне отчетливое и ясное, сочинит страниц десять-пятнадцать в этом роде и дальше непременно перейдет на себя, на судьбу поэта, на Революцию — с большой буквы, конечно, – на снег, на ветры и метели, на мистическую и прекрасную Россию, на то, как он Россию любит, или как Россия любит его, и в конце концов так бесконечно запутается, что остается ему один только выход: поставить вовремя многоточие и вернуться к рассказу. В таких сладко-поэтических отступлениях утопают все вещи Пильняка, и если в небольших дозах эта нехитрая лирика могла бы оказаться и приятной, то когда она преподносится целыми пудами везде и всюду, от ее назойливой чувствительности не знаешь как избавиться.
При этом невозможно отрицать, что Пильняк — даровитый человек, вернее даровитая «натура», чутьем иногда находящая темы, слова, тон, которые запоминаются. Но несомненная ограниченность Пильняка дает себя знать постоянно, почти в каждой фразе, и, конечно, она препятствует тому, чтобы Пильняк стал большим писателем. Таланта у него, может быть, и хватило бы, но, кроме таланта, настоящее творчество требует еще многого другого, чего у Пильняка в помине нет. При большей скромности он оказался бы приемлемее. Но так как Пильняк всегда взбирается на ходули, всегда вещает, голосит, витийствует или пророчествует, то он сам себя губит: нам не только не страшно, когда он нас «пугает», — нам чуть-чуть еще и смешно.
Можно ли не улыбнуться, например, прочитав в новой повести Пильняка «Штосс в жизнь»[28] — повесть о Лермонтове — следующие слова:
«Пройдет сто лет, и мы сдвинемся с Лермонтовым на полках русской литературы, — не тем, что Лермонтов описывал пошляков, а я описывал метели революции, но тем, как мы видели, молились, ошибались, жили, любили».
«Le style c'est l'homme», — и, право, целая характеристика человека заключена в обезоруживающей наивности этого «мы с Лермонтовым».
Пильняк пожелал рассказать о дуэли и смерти Лермонтова. Он воспользовался для этого неоконченной лермонтовской повестью о художнике Лугине, который поселяется в доме некоего Штосса и ночью играет в штосс — карточную игру — с привидениями. У Лермонтова вся эта история, несмотря на каламбур, лежащий в завязке ее, имеет таинственно-трагический характер. Пильняк этот склад ее перенял.
Повесть начинается с описания приезда Лермонтова на Кавказ, в ссылку, появления его в офицерском собрании и беседы с новыми товарищами. Первая глава повести картинна и ярка. Лермонтов, мрачно-мечтательный, беспокойный, насмешливый, с тяжелым «свинцовым» взглядом, которого никто не выдерживает, представлен среди провинциальных офицеров удачно. Дело происходит в ночь под Новый год. Лермонтов в красной шелковой рубахе с засученными рукавами варит жженку, играет в карты — все тот же штос, – рассказывает экспромтом историю о художнике Лугине и, наконец, в полной тишине, после обычных тостов «За здоровье государя императора» поднимает свой бокал: