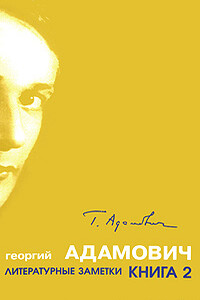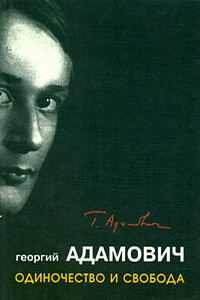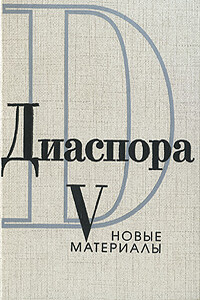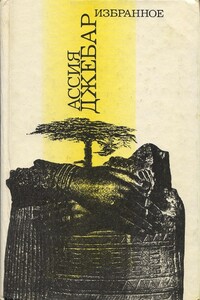– Мир гибнет вовсе не от войн, не от пожаров и не от землетрясений, а от мелких, повседневных домашних невзгод…
Для Тэффи это аксиома. Она часто говорит о жизни с большой буквы, о жизни вообще, о великой и могучей силе, создавшей мир, «о любви, движущей солнце и другие звезды», но не находит, однако, для этих славословий ни тона, ни ритма, ни выражений, которые были бы вполне убедительны. Ее восторги остаются литературно-условными, «без изюминки». А лишь только коснется она частных случаев жизни, особенно тех, в которых великая сила, ею только что «воспетая», терпит какое-то непонятно-унизительное, непоправимое и карикатурное искажение, так сейчас же все слова ее становятся остры и правдивы, и один за другим проходят перед нами человеческие образы, еле-еле намеченные и вместе с тем предельно живые, не столько несчастные, сколько несчастливые… Оттенок очень важный для понимания Тэффи: ее влекут не те люди, с которыми случилось что-либо ужасное, а те, в жизни которых не произошло ничего хорошего, чудесного, замечательного. По ее общему мироощущению, жизнь есть непрерывное, нескончаемое торжество. А глядя, как это торжество превращается в безотрадное прозябание, Тэффи со страстным и встревоженным вниманием ищет объяснения – как это могло случиться.
Популярность Тэффи на этом, вероятно, и основана. Еще до войны кто-то определил ее рассказы, наивно и вместе с тем верно: «поэтические фотографии»… Точность воспроизведения действительно безупречна в ее писаниях, — она подлинно фотографическая. Но «луч поэзии» лежит на этих писаниях всегда — и виден сразу, без всякого усилия, «невооруженным взглядом»: читаете о Марии Ивановне или Петре Петровиче, все знакомо, все буднично — фон, даль и освещение волшебны и выдают призрачность реализма.
Общее впечатление: книга Тэффи написана именно для тех людей, о которых она рассказывает, для изверившихся умов, для измученных и ослабевших душ… Им уже не под силу, им уже не хочется следить за сложными и изменчивыми судьбами, разбираться в многообразии жизни, вникать и размышлять, — проделывать вообще всю ту работу, которую от читателя требует роман, «роман–река», по образному французскому выражению. Их организм подточен, он требует уже искусственного питания — каких-нибудь быстродействующих пилюль. И вот Тэффи такие пилюли изготовляет — пишет короткие, отрывистые, «мимолетные», умные и грустные рассказы, в которых как будто между строк говорится: «ну, о чем же расписывать, раз все равно и так ясно, к чему болтать, раз самого главного все равно не скажешь, зачем обманываться, если все равно все исчезнет…». Несколько слов, два-три безошибочных штриха, усмешка, восклицание – и точка. Больше писать не о чем.
Есть большая усталость в творчестве Тэффи – и, повторяю, к усталым людям оно и обращено.
Перелистаем новый сборник рассказов Тэффи – «Книгу-Июнь».
Маленькая Катя в первый раз влюбилась. «Господи, Господи! – шепчет она. – Помоги мне, грешная я… страшно на свете Твоем. Как же быть мне? И что оно, это, все это?» И все искала слов, и все думала, что слова решат и успокоят.
Умер мосье Витру. Муж консьержки. Пьяница, никчемный человек. «Первый раз совершил он общепринятый, буржуазный, вполне почтенный поступок, который возбудил у всех интерес и даже благоговение». На поминках мадам Витру, консьержка, разливая кофе, произносит, «как повторяют исторические слова великих людей:
– Мой бедный Андре часто говаривал: кофе надо пить очень горячий и с коньяком».
Старуха Столешина, бывшая «работница на общественной ниве», живет одна в меблированной комнате в Париже. Хозяева квартиры с гостями своими над нею смеются: «Мама, расскажи про католика! Мы так хохотали, мама! — Да, тут вышла забавная история, старушка наша заснула… и вдруг кричит: "Католик с постельки свалился, католик плачет"… Оказалось, она Катерину Павловну (дочь свою) называет Катулей, и ей приснилось, будто та еще маленькая Катуля… Катерина Павловна большая, толстая, и вдруг с постельки упала. Ха-ха-ха».
Институтка-гувернантка в деревне мечтает о герое. Ходят слухи о каком-то разбойнике – красавце и обольстителе. Случайный проезжий просится переночевать. Девица принимает его за «того», достает из сундука заветный кисейный капотик с голубыми лентами.