Создал я в тайных местах
Мир идеальной природы, —
Что перед ним этот прах:
Степи, и скалы, и воды!
Пускай же грозит океан неизменный,
Пусть гордо спят ледяные хребты:
Настанет день конца для вселенной,
И вечен только мир мечты.
Но едва только отделились друг от друга эти два мира – поэтический и реальный, – как тут же обнаруживается, что «мечта» (и в этих, и в других стихах) характеризуется поэтом не иначе как через этот же самый только что отвергнутый «прах», и притом она всегда стремится отлиться в картину с вполне материальными очертаниями и природа ее принципиально посюсторонняя. Типичное для символизма двоемирие получает у Брюсова совершенно специфическую окраску: ему чужды какие бы то ни было мистические прозрения в сверхреальность, хотя и в высшей степени свойствен характерный для символистов порыв выразить общезначимое. Именно этот порыв возводил Брюсов много позднее в основную характеристику метода: "Символисты отказывались служить в литературе только практическим целям, хотели найти более широкое обоснование ей и обратились к выражению общих идей, равноценных всему человечеству" >5 .
Такие «общие идеи» занимают у Брюсова место единственно истинной для него «сверхреальности», образуя особую, как бы параллельную плоскость по отношению к действительной жизни. Отражения ее отдельных элементов с их конкретной семантикой призваны выразить им непосредственно не принадлежащий, но в то же время достаточно определенный общий смысл. Как вполне справедливо заметил А. В. Луначарский, «символы Брюсова в большинстве случаев – аллегории» >6 . Символизм, порывая с иррационализмом, оказывается, таким образом, наоборот, сугубо рационалистическим: руководящим в созданном на такой основе поэтическом мире является интеллектуальное начало.
Поэтому существенному переосмыслению подвергается представление о поэтическом чувстве, в котором прежде всего подчеркивается опять-таки его обобщающая природа. А основное призвание поэзии – воспевать «чувства мира», как пишет об этом Брюсов в одном из ранних своих стихотворений:
Ты знаешь, чью любовь мы изливаем в звуки?
Ты знаешь, что за скорбь в поэзии царит?
То мира целого желания и муки,
То человечество стремится и грустит.
В моленьях о любви, в мучениях разлуки
Не наш, а общий стон в аккордах дивных слит.
Страдая за себя, мы силою искусства
В гармонии стиха сливаем мира чувства.
«Общие идеи» и «чувства мира», к которым обращается Брюсов, могут быть, по его мнению, предметом рационального познания, а затем предельно экспрессивного образного выражения (см., например, чрезвычайно характерное замечание поэта о том, что «образ Отелло есть художественное познание того, что такое ревность» >7 ). Таким образом познаются и воспеваются в стихах самые различные по качеству мысли и чувства, у которых есть, однако, объединяющая примета – максималистская общность, огромность, «гигантизм». На этом пути формируется излюбленная и ведущая «героиня» рационалистической лирики Брюсова – мысль-страсть, для провозглашения которой необходимо громкое, возвеличивающее слово. Рационализм и ораторство неразрывно переплетаются друг с другом в складывающейся художественной системе поэта – глашатая «общих истин», возведенных в достоинство страсти.
После этого небольшого экскурса в поэзию Брюсова мы легко увидим в «Антонии» именно мысль-страсть с характерными признаками предельной общности и гигантизма. При неизменной «громадности» страсти и всего того, что ради нее отвергается, мы не найдем никаких отражений качественного своеобразия именно данного конкретного чувства, его неповторимого субъекта и объекта. Даже в тех немногих случаях, когда призванные для воплощения мысли-страсти исторические персонажи наделяются какими-то характеристиками, они имеют общий, абстрактно-величественный характер: «прекрасный, вечно юный» исполин Антоний, «желанный взор» Клеопатры и т. п. Перед нами – «общая истина», «чувство мира», отвлеченное от его конкретных носителей, и в этом смысле «Антоний» вполне вписывается в любовную лирику «Венка» и других сборников зрелого Брюсова, где единственным субъектом все более и более становится страсть вообще:
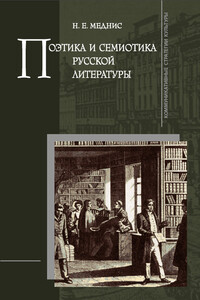

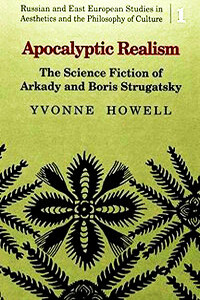
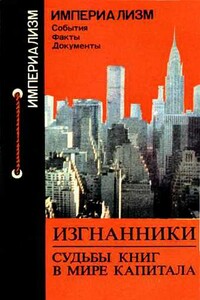

![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)