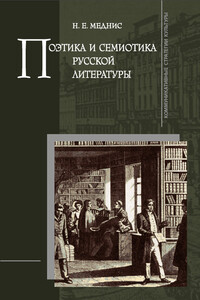"Выразить чувство, – говорил Баратынский, – это значит разрешить его… " (с. 496). Это, безусловно, не примирение противоречий, не указание на внешний выход, а раскрытие новой внутренней перспективы в адекватной человеческому сознанию бесконечности мира. В рассматриваемом стихотворении совершенство художественного воплощения хода мысли и поведения мыслящего человека бесстрашно открывает кризисный разлад действительности и духа, которые по-своему исчерпывают все бытие. И это поэтически воплощенное открытие «разрешает в гармонию», преображает и «земную обитель», и «обитель духов» в поэтическое целое. Финальное «откроются врата» переходит в этом целом из будущего в вечно настоящее – только открываются «врата», так сказать, не вовне, а внутрь, проявляя преображенный в «простор» целостный мир.
Мыслящий человек – основа этой художественной целостности. «Средоточие поздней лирики Баратынского, – пишет И. Л. Альми, – не личность в ее биографической многогранности, а некий персонифицированный интеллект. Напряженность и трагическая острота его поэзии – мука „страстей ума“, трагедия проклятых вопросов бытия. Отсюда – главный принцип стиля „Сумерек“: мысль подается не как „сиюминутное“ открытие, а как вневременной итог общечеловеческих раздумий» >12 . В основном это верно, только стоило бы чуть-чуть смягчить оба противопоставления.
Во-первых, в стиле Баратынского воплощается движение, становление мысли как акт поведения мыслящего человека, как действительное сознание в его реальном обнаружении, как здесь и сейчас происходящее открытие и сознательное превращение (или, может быть, точнее: превращение в сознании) сиюминутного в вечно настоящее. Во-вторых, «персонифицированный интеллект» не вполне исключает личность. У Баратынского есть, пожалуй, не душевная, а духовная индивидуальность. Ведь «моральность мышления» неразрывно связана с тем, что поэт называл «углубиться в себе», а это углубление преодолевает индивидуально-частные интересы и особенности, но не исключает личности – носителя мысли, субъекта поэтического целого, проявляющего себя в стиле. И стилевое единство поэтического произведения воссоздает уже не просто мысль, а единую и цельную жизнь размышляющего человека, его живое слово, здесь и сейчас высказанное и непременно услышанное.
«Отделка стихов» на необитаемом острове – это не только надежда на «далекого потомка», но и реальное общение. «Сношенье душ» человека с человеком происходит не только при помощи поэзии, но и в поэзии, происходит как внутреннее событие созидаемой произведением художественной целостности. Характерна в этом смысле двузначность памятных всем стихов Баратынского:
Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношенье…
Поэтическая «отделка» человеческого стремления «мысль разрешить», возведение его в «перл создания» открывает глубинное неодиночество мыслящего человека даже на необитаемом острове.
Пронизывающий и анализируемое стихотворение, и многие другие произведения философской лирики Баратынского пафос безбоязненного размышления о коренных проблемах бытия имеет несомненный конкретно-исторический смысл. Не случайно необходимость доказать высокую «моральность мышления» Баратынский связывал с тем, что николаевская Россия стала для передовой мыслящей интеллигенции «необитаемым островом» ( с. 519). По справедливому замечанию Л. Гинзбург, тема поздней лирики Баратынского – «трагическое самосознание человека, изолированного, отторгнутого от общих ценностей» >13 . Катарсис этой поэтически воплощенной трагедии – «выход» к ценностям всеобщим, к высшей ценности единого, бесконечного и целостного мира, которым порождается и который отражает поэзия.
В поэтическом слове существует «всеоживляющая связь» людей, а ее предпосылкой являются «одинокие мучения и искания» >14 поэта в реальной действительности. Об этом «жизненном подвиге» сам Баратынский прекрасно написал Плетневу: «Примись опять за перо… не изменяй своему назначению. Совершим с твердостью наш жизненный подвиг. Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия» (с. 496).