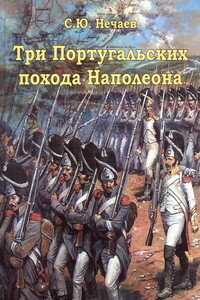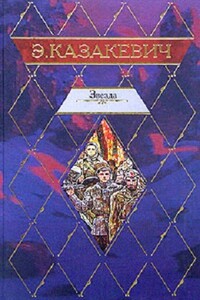Мильтон разгладил лицо ладонями.
— Что вы делали?
— Ничего. Пять минут назад кончили играть в «жучка», с тех пор я думаю.
— О чем?
— Тебе покажется странным… но о своем брате, который в плену в Германии. При том пекле, что здесь у нас, представь себе, я думал о брате. У тебя никого нет в плену в Германии?
— Только друзья и школьные товарищи. Восьмое сентября?.. Он был в Греции, в Югославии?..
— Да что ты! Он был в Алессандрии, в двух шагах от дома, и не смог спастись. Люди добирались из Рима, из Триеста добирались, добирались черт знает откуда, только он не появился, хотя был в Алессандрии. Мать прождала на пороге до конца сентября. И как его угораздило? Заметь, он не рохля, из всех братьев был самый боевой. Это он научил нас всяким проделкам, бесшабашности научил и многому такому, что мне потом пригодилось в партизанской жизни. Вот что я тебе скажу — и дело тут не только в моем брате: надо бы нам почаще вспоминать про тех, кого упекли в Германию. Ты хоть раз слышал, чтобы о них говорили? Никто про них не вспоминает. Нам бы надо посильнее на газ нажимать не только ради себя, но и для них тоже. Согласен? Наверно, хуже нет, как сидеть за колючей проволокой, они там, наверно, с голоду подыхают, с ума сходят. Даже один-единственный день может иметь для них значение, может быть решающим. Если мы хоть на день конец войны приблизим, кто-то, глядишь, не умрет, кто-то другой не сойдет с ума. Надо скорее вернуть их домой. А потом мы все расскажем друг другу, мы — им, они — нам, и им будет очень обидно рассказывать только о том, как они ничего не могли сделать, и слушать без конца про наши дела. Правильно я говорю, Мильтон?
— Да, — ответил он, — но я думал о человеке, которому в тысячу раз хуже, чем твоему брату. Если этот человек еще жив, он бы согласился на Германию, Германия была бы для него спасением. Ты уже знаешь о Джорджо?
— О Джорджо Шелковой Пижаме?
— Почему ты зовешь его Шелковой Пижамой? — заинтересовался Риккардо, один из тех двоих, что оседлали кормушку.
— Не говори, — шепотом попросил Мильтон.
— Не твоего ума дело, — бросил Мате в ответ Риккардо и вполголоса сказал Мильтону: — Это, конечно, нехорошо, но, когда я узнал, что его взяли, я почему-то вспомнил, как он, ложась спать на солому, напяливал шелковую пижаму.
— Что ему сделают, как ты думаешь? Мате вытаращил глаза.
— Ну и ну! А по-твоему, что?
— Но сначала его будут судить…
— Ах да, — подхватил Мате. — Вполне возможно. Даже наверняка будут. Субчиков вроде Джордже сначала всегда судят. Если бы тебя поймали, было бы то же самое. И тебя бы судили, даже скорее, чем Джорджо. Вы ведь студенты, рыбка к рыбке, откроешь банку — пальчики оближешь. Вас-то судят. Вас судить они согласны, нет, что ли? А такие, как я, как те двое, мы для суда рылом не вышли. Таких как сцапают, сразу швыряют к стенке и расстреливают влёт. Только ты не думай, Мильтон, будто из-за этой разницы я на тебя зуб имею. Подыхать сразу или через три дня — не все ли равно?
— Фашистский потрох! — подал голос мальчонка. Бабушка погрозила ему веретеном.
— Чтобы я этого больше не слышала! Нечего сказать, набрался ума-разума у партизан.
— Не получается у меня, — пожаловался мальчик, имея в виду домашнее задание.
— Попробуй еще раз и увидишь — все получится. Учительница не задаст такое, чего вам не под силу.
Пинко, второй из сидевших на кормушке, спросил:
— Вы говорили про того, которого вчера утром сцапали на развилке возле Манеры?
— Не вчера, — поправил Мильтон, — а позавчера.
— Нет, ты ошибаешься, — возразил Мате, вскинув глаза на Мильтона. — Это было вчера утром.
— Так вы про него говорили? — хотел знать Пинко. — Честно говоря, не очень-то мне понятно, как его сцапали.
Мильтон резко обернулся.
— Что ты хочешь этим сказать? — И он пристально, во все глаза смотрел на него, и ему казалось, что, осуждая Джорджо, этот тип оскорбляет Фульвию. — Что ты хочешь этим сказать?
— А то, что он не защищался до последнего, как Блейк, или сразу не пустил себе пулю в рот, как Нанни.
— Был туман, — объяснил Мильтон, — и из-за тумана он не сделал ни того, ни другого. Он ничего не успел понять.