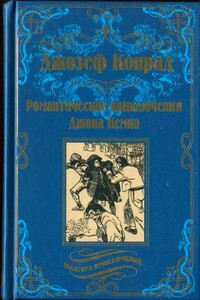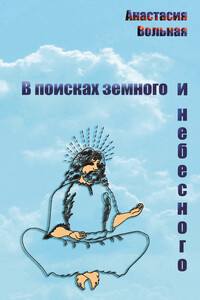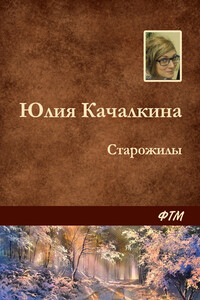Тут, я полагаю, у читателя может вытянуться лицо (не хочу никого обидеть), как будто он обнаружил кота в мешке. Пользуясь правом писателя, я закончу мысль читателя восклицанием: «Все ясно! Этот малый говорит pro domo» [14].
Клянусь, у меня и в мыслях не было! Когда я взвалил на себя этот мешок, о коте я и не подозревал. Но, в конце концов, почему бы и не постоять за себя? Литературное поприще всегда окружено толпами челяди. И нет слуги преданнее, чем тот, кому дозволено сидеть на пороге. А те, кто проникли внутрь, склонны мнить о себе слишком много. Это утверждение, прошу заметить, не является грубым нарушением закона о клевете. Это все лишь беспристрастное замечание на общественно значимую тему. Но не обращайте внимания. Pro domo. Да будет так. Для своего поприща tant que vous voudrez [15]. И все же, по правде говоря, я вовсе не стремлюсь оправдать свое существование. Пытаться найти оправдание было бы не только бессмысленно и нелепо – во вселенной, которая есть не более чем зрелище, такой тягостной необходимости просто не существует. Достаточно сказать (что я и пытаюсь сделать вот уже на протяжении нескольких страниц): «J’ai vécu» [16]. Я существовал, незаметный среди чудес и ужасов своего века, подобно изрекшему эти слова аббату Сийесу [17], который смог пережить преступления и восторги кровавой Французской революции. J’ai vécu – все мы как-то выживаем, я полагаю, то и дело избегая всевозможных смертей, находясь от них на волосок. Так и мне, как видите, удалось сберечь свое тело, а возможно, и душу – и все же остались сколы на острие моего сознания – этого наследия веков, расы, народа, семьи; сознания гибкого и восприимчивого, сотканного из слов, взглядов, поступков и даже умалчиваний и запретов, знакомых каждому ребенку; сознания, окрашенного всей палитрой полутонов и примитивных красок унаследованных традиций, верований и предрассудков – безотчетных, деспотичных, навязчивых и зачастую, по сути своей, идеалистических.
Чаще идеалистических!.. В любом случае моя задача в том, чтобы эти воспоминания не превратились в исповедь. Доверие к этому роду литературной деятельности подорвал еще Жан-Жак Руссо – с такой нечеловеческой тщательностью подошел он к работе над произведением, главная цель которого – оправдать его существование, и цель эта настолько очевидна, буквально осязаема, что беспристрастному читателю режет глаз. Но ведь он, видите ли, и не писатель. Он – безыскусный моралист, что ясно видно по тому, с каким чувством празднуют его юбилеи наследники Французской революции, которая была не политической коллизией, а колоссальным прорывом морализма. Он был обделен воображением, что понятно даже после беглого прочтения «Эмиля». Он не был писателем, чья главная добродетель – точное понимание пределов, которыми современная ему реальность ограничивает игру его воображения. Вдохновение исходит от земли с ее историей, с ее прошлым и будущим, бессмертные же небеса остаются безучастны. Сочинитель воображаемых историй даже больше, чем другие художники, раскрывает себя в своих произведениях. Из его представлений о том, что такое правда, из глубинного понимания сути вещей, верного или ошибочного, складывается его расхожий образ. В самом деле, любой, кто берется за перо, чтобы быть прочитанным незнакомыми людьми, только об этом и говорит, в отличие от моралиста, у которого по большому счету нет другой правды, кроме той, что он силится навязать другим. Не случайно Анатоль Франс, самый выразительный и правдивый из французских прозаиков, отметил, что писателям пора наконец-то признать: «Если у нас нет сил молчать, мы говорим только о себе».
Это замечание прозвучало, если я правильно помню, в ходе полемики с покойным Фердинандом Брюнетьером [18] о принципах и правилах литературной критики. Как и подобает человеку, которому мы обязаны памятным высказыванием: «Хороший критик повествует не столько о прочитанном, сколько о приключениях собственной души», Анатоль Франс утверждал, что в критике нет ни правил, ни законов. Пожалуй, с этим можно согласиться. Правила, принципы, каноны отмирают, исчезают каждый день. Возможно, к настоящему времени от них уже ничего не осталось. Мы переживаем дни отчаянной свободы и низвержения памятников, когда самые оригинальные умы озадачены тем, как будут выглядеть новые ориентиры, которые, будем надеяться, вскоре воздвигнут на развалинах прежних. Писателю же больше всего интересна сама природа этой внутренней уверенности, что литературная критика бессмертна, ибо человек, как бы по-разному его ни определяли, – это прежде всего животное критикующее. И покуда выдающиеся умы готовы видеть в ней приключения собственной души, литературная критика будет по-прежнему увлекать нас со всем очарованием и мудростью складно рассказанной глубоко личной истории.