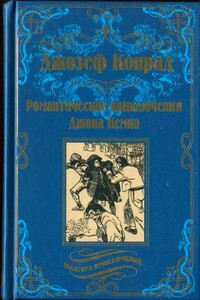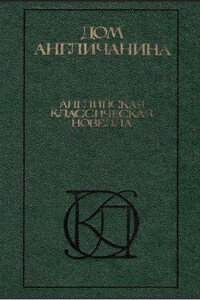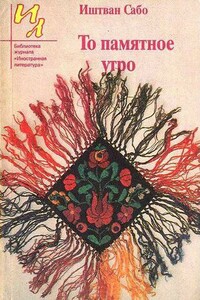«Вы давно из Европы?» – спросил он.
«Не очень. Меньше восьми месяцев. Я сошел с корабля в Семаранге из-за больной спины и несколько недель пролежал в сингапурском госпитале».
Он вздохнул.
«Торговля здесь из рук вон».
«И не говорите!»
«И лучше не будет!.. Видите этих гусей?»
Зажатой в руке пачкой писем Олмейер указал в сторону маленького сугроба, который продвигался вразвалку по дальнему краю его участка. Вскоре сугроб скрылся за кустом.
«Видите? Больше гусей на Восточном побережье нет», – сухо констатировал Олмейер без тени надежды или гордости. Затем, опять же без всякого воодушевления, он сообщил о намерении выбрать птицу пожирнее и отправить ее на борт не позднее следующего дня.
Я уже был наслышан о его широких жестах. Он жаловал гуся как королевский подарок, которого удостаиваются только верные друзья дома. Я было приготовился к пышной церемонии. Подарок был действительно необычный, щедрый и по-своему исключительный. Шутка ли, единственная стая на всем Восточном побережье! Однако Олмейер обошелся без всякой помпезности. Этот человек не умел воспользоваться ситуацией. Я тем не менее принялся его благодарить.
«Видите ли, – резко прервал он меня изменившимся голосом, – хуже всего в этой стране – что никто не в состоянии понять… невозможно понять… – Его голос упал до тихого бормотания. – И если у кого-то большие планы… далеко идущие планы… – закончил он еле слышно, – там, выше по реке».
Мы смотрели друг на друга, и тут он вздрогнул и состроил весьма странную гримасу.
«Ну ладно, мне пора, – выпалил он. – До встречи!»
Однако, шагнув на трап, Олмейер спохватился и пробурчал, что приглашает нас с капитаном вечером на ужин. Приглашение я принял. У меня просто не было выбора.
Люблю, когда почтенные мужи толкуют о свободе выбора, призывая не пренебрегать ею «по крайней мере в вопросах практических». Но где эта свобода? В практических вопросах?! Чушь! Как я мог отказаться от ужина с таким человеком? Я не отказался, потому что просто не мог отказаться. Любопытство, здоровое желание разнообразить рацион, банальная вежливость, разговоры и улыбки последних двадцати дней – каждая сторона моего существования здесь и сейчас взывала к тому, чтобы я принял это приглашение. Венцом всего было мое невежество – невежество, говорю я, и отсюда – неистребимая жажда знаний, без которых этот ребус остался бы неразгаданным. Отказаться было противоестественно, чистое безумие. Никто в здравом уме не отказался бы. Но если б я тогда не познакомился с Олмейером поближе, ручаюсь, с печатного станка не сошло бы ни единой моей строчки.
Я принял приглашение и до сих пор расплачиваюсь за свое здравомыслие. Обладатель единственной стаи гусей на Восточном побережье заострил мое перо на четырнадцать книг, изданных с тех пор. Гусей, выращенных им в неблагоприятных климатических условиях, было гораздо больше четырнадцати, и можно с уверенностью сказать, что количество написанных мной томов никогда не превысит поголовья его гусей. Я, однако, к этому и не стремлюсь, и каких бы мучений ни стоил мне тяжкий писательский труд, всегда вспоминаю Олмейера с благодарностью. Интересно, как бы он отреагировал, узнай он о своей роли? В этой жизни ответа уже не получить.
Но если мы и повстречаемся с ним в райских кущах – не могу представить его там иначе как в сопровождении гусей (стайка священных птиц Юпитера следует на почтительном расстоянии) – и он обратится ко мне в тиши того безмятежного края, где нет ни света, ни тьмы, ни звуков, ни безмолвия, а лишь бесконечное марево неосязаемой массы роящихся душ, пожалуй, я знаю, что сказать ему в ответ.
Вежливо выслушав его осторожные протесты, монотонность которых, разумеется, даже мало-мальски не должна потревожить вечность в ее торжественном оцепенении, – я сказал бы ему примерно следующее:
«Все верно, Олмейер, в мире дольнем я употребил твое имя в своих целях. Но ведь присвоил я совсем немного. Что в имени тебе, о Тень?! Если бренные страсти все еще одолевают тебя, угнетая дух твой (я как будто слышу нотки твоего земного голоса, Олмейер), тогда, умоляю, Тень, без промедления обратись к нашему прославленному собрату – тому, кто в мирском обличии поэта толковал о запахе розы – пусть он утешит тебя