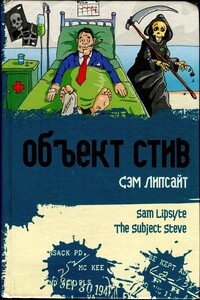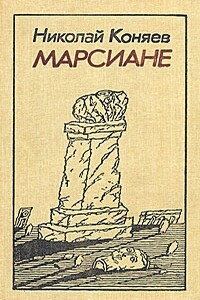— Ты предлагала нам попробовать пожить вместе…
— Конечно! — Радостно соглашаюсь я. — Мне только нужно на несколько дней слетать в Н.
У него напрягается лицо, а я чувствую, что моя душа, кружась, как юла, стремительно летит в пропасть. Я начинаю, путано и лихорадочно ему все объяснять: и про родителей, которые развелись и, разделив, разобрали детей, словно вещи из шкафа, и о наследстве, и о посмертной записке сестры…
— Тебе что так необходима эта квартира в Н?
Я даже сажусь на кровати.
— Квартира? Нет. Она мне, наверное, совсем не нужна.
— Тогда зачем тебе ехать так далеко?
— Исполнить последнюю просьбу сестры.
— Какую просьбу?
— Я еще не знаю. Она написала, что я должна прочитать ее дневник и письмо, там ее объяснение.
— Она еще и дневник вела?
— Да, с детства. Знаешь, она была влюблена в мальчика, в Заоконного, с которым так никогда и не познакомилась.
— Анахронизм — письма-то писать, не говорю уж про всякие дневники, — он, холодно убрав мою руку со своей груди, встал и начал одеваться, отвернувшись.
Патриархальность в Максиме причудливо совмещена с новшествами современной жизни, подумала я, а спина у него круглая, спина дезертира, предпочитающего отсиживаться в погребе. Но, как говорится, и кухарки могут управлять государством, и министры финансов любить умеют. Дезертир так дезертир.
— Знаешь, Максим, — уже совсем беспомощно и невпопад, начинаю оправдываться, — я тебя, между прочим, прождала 31 декабря, а ты встречал Новый год с мамой. А мне пришлось мучиться с этими дураками …
— С какими еще дураками? — Он уже оделся и смотрит на меня, сузив серые прозрачные глаза.
— Ну, с теми, из Парижа.
В здании нашего театра всю предновогоднюю неделю гастролировала французская труппа, смешившая зрителей экстравагантной клоунадой и вычурными фарсами.
— Ты, разумеется, всех умнее. — Он проводит ладонью по карману пиджака: все цело, деньги и документы. Пора бежать.
— Ну… они, конечно, не то, чтобы дураки…
— Дураки в Париже не живут. Они все у нас. — Отрезает он. Идет в прихожую, начинает надевать ботинки.
— Конечно, опять нет ложки для обуви?
Я виновато заглядываю во все ящики. И все-таки ее нахожу.
— Спасибо, уже не надо. — Он сам открывает замки. И уже на лестничной площадке на миг останавливается, обращает ко мне бледное лицо и произносит, не глядя мне в глаза.
— И вообще я не уверен… — Он делает паузу, будто не знает, стоит ли заканчивать фразу — что у тебя была сестра.
Я, сдерживая слезы, смотрю ему вслед: в сером костюме, с большим, уже давно немодным, «дипломатом», сейчас он напоминает мне Юрия Деточкина из старой гениальной комедии.
Смех в зале.
Неужели он все-таки не придет меня проводить? Уже объявили посадку в самолет, и я медлила, не отводя глаз от входа в аэровокзал. Мне казалось: он где-то рядом, вот мелькнуло его лицо, ближе, ближе, я рванулась навстречу — не он!
Наверное, сейчас он мысленно здесь, со мной; может быть, до последней минуты (я по телефону сообщила ему время вылета моего самолета) колеблется — поехать в аэропорт или не поехать. Ну я же хорошо изучила его — он не приедет… Не приедет. Круглая спина дезертира мелькнула в толпе и скрылась.
А я заторопилась догонять хвост идущих на посадку пассажиров.
В самолете меня внезапно затошнило. К счастью, обошлось без неприятных последствий
…Потом я закрыла глаза и погрузилась в облачный туман воспоминаний.
Когда сестре было четырнадцать, она вырезала из книжки рисунок к рассказу Горького о Данко, на котором был изображен всеми отверженный, надменный и жалкий Ларра и повесила у себя над столом. Когда позже я прочитала рассказ, Ларра показался мне противным, а Данко испугал: вырвать из груди сердце — как жутко!
Сестре нравился Врубель, его чахоточная Царевна-лебедь и несчастный Демон. Она несколько раз перечитывала «Морского волка», упиваясь болезненно — дикой страстью Ларсена к хрупкой героине. Обо всех своих книжных увлечениях она рассказывала мне в длинных письмах.
Мы совсем непохожи с сестрой. Эта мысль дала мне сейчас успокоение. Я не люблю страсти, драму, я не люблю театр — да! да! — хотя с удовольствием делаю к спектаклям декорации. И песни цыган, и хрипы Высоцкого — героя ее детства, — все это чуждо мне.