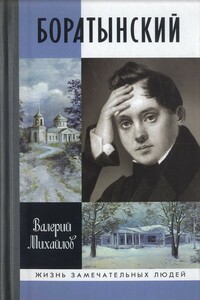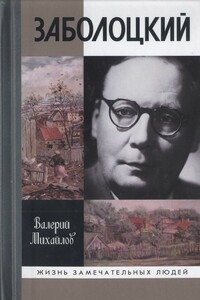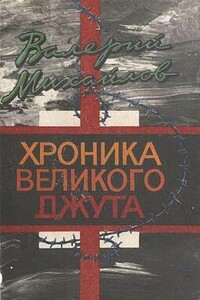Эти слова — эхо в ответ на мемуары и на труды жизнеописателей и исследователей, а сказаны они под впечатлением очередного увесистого тома о «личности поэта и его творчестве». А. А. Блок с горькой иронией рецензирует книгу Н. А. Котляревского, находя в ней лишь новую несостоятельную «учёную» попытку понять и растолковать того, кто автору явно не по зубам.
Вот продолжение мысли Александра Блока:
«Остаётся „провидеть“ Лермонтова. Но ещё лик его тёмен, отдалёнен и жуток. Хочется бесконечного беспристрастия, — пусть умных и тонких, но бесплотных догадок, чтобы не „потревожить милый прах“. Когда роют клад, прежде разбирают смысл шифра, который укажет место клада, потом „семь раз отмеривают“ — и уже зато раз навсегда безошибочно „отрезают“ кусок земли, в которой покоится клад. Лермонтовский клад стоит упорных трудов».
В самом деле, что разглядели в Лермонтове, особенно в пору его юности и молодости, даже те, кто знал его близко?
Вот Аким Павлович Шан-Гирей, друг и родственник, с «Мишелем» знакомы с детства, вместе воспитывались. Читал и свеженаписанные братом стихи и, уж конечно, после перечитывал. И что же? С прямотой офицера отрубил в воспоминаниях, что Лермонтов просто передразнивая Байрона. То бишь слепо подражал…
«Вообще большая часть произведений Лермонтова этой эпохи, то есть с 1829-го по 1833-й год, носит отпечаток скептицизма, мрачности и безнадёжности, но в действительности чувства эти были далеки от него. Он был характера скорее весёлого, любил общество, особенно женское, в котором почти вырос и которому нравился живостию своего остроумия и склонностью к эпиграмме; часто посещал театр, балы, маскарады; в жизни не знал никаких лишений, ни неудач; бабушка в нём души не чаяла и никогда ни в чём ему не отказывала; родные и короткие знакомые носили его, так сказать, на руках; особенно чувствительных утрат он не терпел; откуда же такая мрачность, такая безнадёжность? Не была ли это скорее драпировка, чтобы казаться интереснее, так как байронизм и разочарование были в то время в сильном ходу, или маска, чтобы морочить обворожительных московских львиц? Маленькая слабость, очень извинительная в таком молодом человеке. Тактика эта, как кажется, ему и удавалась, если судить по воспоминаниям».
С такой же прямолинейностью Шан-Гирей рассуждает о сильном любовном чувстве, что испытывал Лермонтов к Вареньке Лопухиной:
«…это не могло набросить (и не набросило) мрачной тени на его существование…»
И наконец:
«В домашней жизни своей Лермонтов был почти всегда весел, ровного характера, занимался часто музыкой, а больше рисованием, преимущественно в батальном жанре, также играли мы часто в шахматы и в военную игру… Всё это неоспоримо убеждает меня в мысли, что байронизм был не больше как драпировка; что никаких мрачных мучений, ни жертв, ни измен, ни ядов лобзанья в действительности не было; что все стихотворения Лермонтова, относящиеся ко времени его пребывания в Москве, только детские шалости, ничего не объясняют и не выражают; почему и всякое суждение о характере и состоянии души поэта, на них основанное, приведёт к неверному заключению; к тому же, кроме двух или трёх, они не выдерживают снисходительнейшей критики, никогда автором их не назначались к печати, а сохранились от auto de fé случайно, не прибавляя ничего к литературной славе Лермонтова, напротив, могут только навести скуку на читателя, и всем, кому дорога память покойного поэта, надо очень, очень жалеть, что творения эти появились в печати».
Поистине здравый смысл болен одним — отсутствием сомнений.
Ну, зачем юноше Лермонтову, не терпящему малейшего вранья, кривить душой, драпироваться в своих исповедальных по сути стихах, которые большей частью он никогда и никому не показывал?.. Станет ли искренний человек постоянно кривляться перед самим собой в том, что он считал делом своей жизни?.. Шан-Гирею и в голову не приходит, что внутренняя жизнь, жизнь души, может быть совершенно иной, нежели то, что видится стороннему взгляду извне. Тем более если это касается поэта, человека с содранной кожей, чувствилища боли и радости… Да и с теми наивными, неумелыми ещё стихами, что кажутся