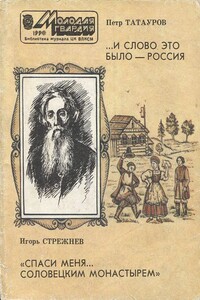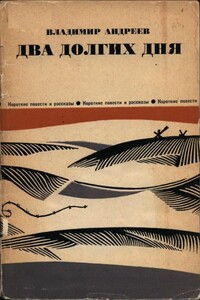Машины затихли, и китобоец по инерции двигался вперед. Кит был рядом или уже ушел вглубь. Я подумал о Стасе, что ему депеша, и о том — попадет ли он сейчас?.. Но тут пошел текст, и до того он был неожиданным и страшным, что пальцы у меня отяжелели и словно прилипли к клавишам: «СЕГОДНЯ ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ УМЕР ПАПА = ЖЕНЯ».
Я распрощался с базой. Снял наушники, выключил приемник, потом передатчик. По-прежнему было тихо. Тихо, как и всегда перед выстрелом.
Я и раньше принимал такие известия. Но сейчас я испугался. Я испугался гораздо сильнее, чем в тот первый раз, когда своими руками принял и вручил такую радиограмму. Умер человек, которого я хорошо знал. Умер отец моего лучшего друга.
Крутнув валик машинки, я вынул радиограмму, еще раз прочитал. Попытался представить себе девятиклассницу Женечку и не смог… А Стас сейчас у пушки. И я все еще ждал выстрела…
Мы родились со Стасом через год после войны. Жили в одном дворе неподалеку от шумной железнодорожной станции. Летом спали в сарае; сквозь щель в стене пробивались лучики паровозных прожекторов, а по утрам мы просыпались от резкого клекочущего объявления со станции, что на второй путь прибывает московский пассажирский. Наспех одевались и бежали на вокзал искать брошенные пассажирами пустые спичечные коробки. Мы искали их на перронах и шпалах, под платформами и у шумных, пахнущих жареной навагой ларьков. Странная эпидемия гуляла в то лето у нас: все ребята собирали спичечные этикетки. Порой находили коробки с редкими тогда, блестящими и гладкими, яркими (мы их звали «масляные») картинками и, как правило, дрались, оспаривая, кто заметил первым. От коробок веяло дорогой, красивыми городами, незнакомыми людьми, тонкими духами и не виданным еще, загадочным и уже любимым морем.
В детстве я завидовал маме: она родилась у моря. Отца я не помнил. По непонятным мне тогда причинам мама о нем не рассказывала. Единственное, что я знал, — он был моряком. Незнакомым людям врал, что отец утонул, после чего мне всегда было нехорошо. Я был стеснителен и неразговорчив, в дружбе доверчив и предан. Правда, в глубине души я немного ревновал Стаса к его отцу.
Стаськин батя, Сергей Леонидович, был машинистом паровоза. Летом он часто брал нас с собой в поездки. Вернувшись, мы втроем шли в деповский душ. От нас пахло углем, сажей, машинным маслом, едким котельным паром. Нежились под горячими струями и с презрением думали о городской бане, куда нас каждую неделю отправляли мамаши. Сергей Леонидович присаживался на корточки, ухватывался рукой за стенку кабины и, подставив спину, говорил; «А ну-ка, пехота!» Мы становились по бокам и крепко терли ему рогожками спину. Пена хлопьями летела в стороны, и дядя Сережа приговаривал: «Во-о! Так, так ее…» Когда я был с левого бока, то старался не смотреть ему под мышку: там вдоль ребер тянулся огромный сизый шрам. Когда мыльная пена все закрывала и я, забывшись, натыкался рогожкой на шрам, то, будто обжегшись, отдергивал руку: мне казалось, что дяде Сереже очень больно. В паху и на бедрах тоже было несколько рваных рубцов. «Это рычагами его так», — говорил мне Стас. В войну дядя Сережа воевал на танке.
В конце августа начинались заморозки. Картофельная ботва была по утрам черной; днем солнце припекало, и ботва становилась коричневой. Открывался охотничий сезон. Дядя Сережа ночевал вместе с нами в сарае, а рано утром уходил на озера, что тянулись вдоль железной дороги, километрах в пяти от станции. Как-то ночью, проснувшись, я вздрогнул, услышав стоны. Дядя Сережа тихо постанывал. Он спал внизу, и я свесился с настила, но было темно, и я его не видел. Мне стало страшно. Я толкнул Стаса. Он, оказывается, не спал.
— Бать! — тревожно окликнул Стас. — Может, мать позвать?..
— A-а? А, нет. Вы, это, спите, сегодня рано вставать. А я ничего. Так, что-то приснилось. Пойду воздухом подышу, и все… Спите. Скоро разбужу.
Мы услышали, как скрипят пружины, как он тяжело дышит поднимаясь. Потом дверь сарая хлопнула. Было холодно, и я думал: зачем ему воздух, когда и здесь холодно? Я кутался в одеяло и прижимался к Стасу.