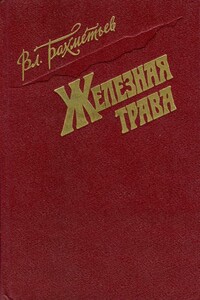Наконец опять была его очередь. Он живо прошел к краю трибуны и опять встречен был долгими аплодисментами. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, ждал нетерпеливо.
Аплодисменты гремели. Он пригладил рукой лысину и ждал. Зал продолжал неистовствовать.
Павел понял и — первый опустил руки. Зал постепенно заглох. Ильич готовился: он оправил, засучивая, рукава, прихватив в левую руку ремешок часов и заглянув на них. В правой руке подрагивала у него бумажка.
«Теперь он иной, новый», — думал Павел.
Зал притих. Ильич говорил, засовывая порою пальцы за вырез жилета у приплечья, порою беззвучно, одним оскалом зубов посмеиваясь, и в том самом месте, где выражал он надежду, что партия скажет решительное слово всем оппозиционерам, сделал ногою веселый и легкий, но внушительный жест, как бы поддавая кого-то обреченного.
Глубоко впавшие и остро внимательные глаза, как буравчики, сверлили полумрак и были полны ума и веселья. Но изредка эти глаза совсем мрачнели, тогда блеск их был бы нестерпим, если бы не улыбка на губах, от природы насмешливых.
В слегка сиповатом голосе все время звучала сосредоточенная энергия.
— Не надо теперь оппозиции, товарищи! — Он всем корпусом подался вперед. — И я думаю, что партийному съезду придется этот вывод сделать, придется сделать тот вывод, что для оппозиции теперь конец, крышка, теперь довольно нам оппозиций!
Это звучало как приказ, здесь слышалась воля класса, преодолевающего неимоверные трудности, готовящегося к новым битвам.
Взрыв рукоплесканий прокатился по залу.
Потом аплодисменты чередовались со смехом, и Павел видел, ощущая почти физически, как этот крутолобый человек с прищуренным глазом, шаг за шагом, удар за ударом, наступал на противника и обнажал его, срывал с него покров за покровом, высмеивая все его сродство, кричавшее о себе на весь зал.
— «Рабочая оппозиция» говорит: «Мы не будем делать уступок, но мы останемся в партии». Нет, этот номер не пройдет!
Зал отвечал гулом аплодисментов…
Шел третий день съезда. За столиком был Сталин.
Павел с тревогой посматривал на понурившегося Ильича. Вскоре он скрылся.
«Болен!», впервые прозвучало тогда тревожное слово. «Острые головные боли».
Невозможно было представить себе Ленина, терзаемого страданиями в тот самый момент, когда зал походил на судно в открытом бурном море.
За кафедрой стоял Сталин. От слов и всей фигуры оратора веяло силой: не было ни красивых жестов, ни пестрых фраз, но каждое его слово звучало напряжением измеренной воли.
И опять Павел, успокаиваясь, думал о том, что жизнь, какая она была теперь, прекрасна и что счастливы все они, участники невиданных на земле событий.