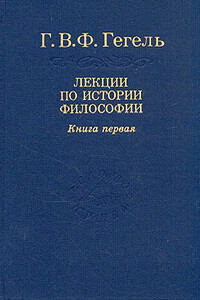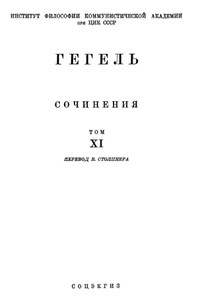Судьба Сократа, таким образом, подлинно трагична, трагична не в поверхностном смысле слова, не в том смысле, в котором каждое несчастье называют трагичным. Так, в частности, называют трагичной смерть, постигающую достойного индивидуума. Так, например, говорят о Сократе, что его судьба трагична потому, что он был невинно осужден на смерть. Такое страдание без вины было бы лишь печально, а не трагично, ибо это – не разумное несчастье. Несчастье лишь тогда разумно, когда оно порождено волей субъекта, которая должна быть бесконечно правомерной и нравственной, точно так же как бесконечно правомерной и нравственной должна быть сила, против которой она выступает. Такой силой не должна быть поэтому ни простая сила >{87}природы, ни сила тиранической воли, ибо лишь в вышеуказанном случае человек сам виновен в своем несчастье, между тем как естественная смерть есть лишь абсолютное право природы, выполняемое ею по отношению к человеку. В подлинно трагическом должны поэтому прийти в столкновение с обеих сторон правомерные нравственные силы. Такова судьба Сократа. Его судьба не является также лишь его личной, индивидуально романтической судьбой, а в ней представляется нам общая нравственная, трагическая судьба, трагедия Афин, трагедия Греции. Два противоположных права выступают друг против друга, и одно разбивается о другое: таким образом, оба терпят урон, оба также правы друг против друга, и дело не обстоит так, что будто бы лишь одно есть право, а другое есть не-право. Одной силой является божественное право, наивные нравы, законы которых тожественны с волей, живущей в них, как в своей собственной сущности; мы можем абстрактно называть это объективной свободой. Другим, противоположным принципом является столь же божественное право сознания, право знания или субъективной свободы; это – всеобщий принцип философии всех последующих времен. Вот эти два принципа мы видим выступающими друг против друга в жизни и философии Сократа.
Сам афинский народ вступил в тот период образования, когда единичное сознание отделяется, как самостоятельное, от всеобщего духа и становится для себя. Это явление он созерцал также в Сократе, но вместе с тем чувствовал, что это – гибель; он, значит, наказал этот свой собственный момент. Принцип Сократа, таким образом, не был проступком индивидуума, все афиняне были соучастниками этого же проступка; это было как раз преступление, совершавшееся народным духом против самого себя. Благодаря такому пониманию осуждение Сократа было снято; казалось, что Сократ не совершил преступления, ибо дух народа является для себя теперь вообще сознанием, возвратившимся в себя из всеобщего. Это – разложение народа, дух которого, следовательно, вскоре исчезнет из мира, но исчезнет так, что из его пепла взовьется более возвышенный дух, – ибо мировой дух поднялся на более возвышенную ступень сознания. Афинское государство, правда, еще долго существовало, но цветок его своеобразия вскоре увял. Своеобразие Сократа состоит в том, что он воплотил принцип верховенства внутреннего сознания не только в области практики, подобно Критию и Алкивиаду (см. выше стр. 64 – 65 и 60), но и в мысли, и добился признания этого принципа, а это – высшая >{88}форма. Познание привело к грехопадению, но оно также содержит в себе принцип спасения. То, что, таким образом, у других было лишь гибелью, у Сократа (так как это – принцип познания) было также принципом, носившим в себе лекарство. Развитие этого принципа, составляющее содержание всей последующей истории, является само по себе причиной того, что позднейшие философы отошли от государственных дел, ограничивались выработкой внутреннего мира, отмели от себя всеобщую цель нравственного развития народа и заняли враждебную позицию по отношению к духу Афин, по отношению к Афине. С этим находится в связи то, что теперь приобрели большую силу частные цели, частные интересы. В этом есть то общее с сократовским принципом, что то, что кажется субъекту правым, долгом, хорошим или полезным, как в отношении себя, так и в отношении государства, зависит от его внутреннего определения и выбора, а не от государственного устройства и всеобщего. Но этот принцип определения из себя, которым руководится индивидуум, сделался гибелью афинского народа, потому что этот принцип еще не был объединен с народным строем, и точно так же высший принцип должен представляться гибелью повсюду, где он еще не составляет нечто единое с субстанциальной стороной народа. Афинская жизнь расслабла, и государство стало бессильным вовне, потому что дух был расколот в себе. Таким образом оно попало в зависимость от Лакедемона, а затем мы видим, как все подобные государства попадают во внешнее подчинение македонцам.